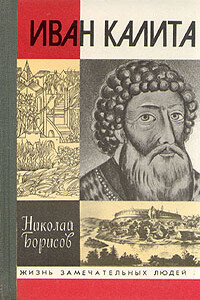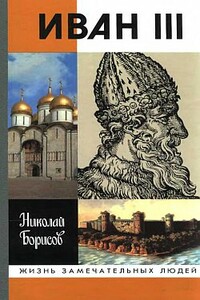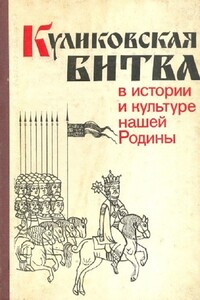Русские полководцы XIII-XVI веков | страница 33
Это известие произвело на новгородцев очень сильное впечатление. Перед лицом страшной опасности они дрогнули, вновь обрели здравый смысл и согласились принять татарских „численников“.
Зная изменчивость настроений новгородцев, Александр поспешил закрепить достигнутый успех. Он не только сам прибыл в Новгород вместе с „численниками“, но и привел с собой сильнейших князей Северо-Восточной Руси — своих братьев Андрея Суздальского и Ярослава Тверского, а также Бориса Ростовского. Все они, разумеется, явились на берега Волхова в сопровождении многочисленных дружин. Обо всем этом, а также о завершении переписи лаконично и выразительно повествует новгородский летописец.
„В лето 1259 зимою приехал с Низа (т. е. из Владимирской земли. — Н. Б.) Михаило Пинешинич со лживым посольством, говоря так: „Соглашайтесь на число, не то полки татарские уже на Низовской земле“. И согласились новгородцы на число. В ту же зиму приехали окаянные татары сыроядцы Беркай и Касачик с женами своими и иных много. И был мятеж велик в Новгороде. И по волости много зла учинили, когда брали тамгу окаянным татарам. И стали окаянные бояться смерти и сказали Александру: „Дай нам сторожей, чтобы не перебили нас“. И повелел князь сыну посадникову и всем детям боярским стеречь их по ночам.
И говорили татары: „Дайте нам число, или мы уйдем прочь“. Чернь не хотела дать числа, но сказала: „Умрем честно за святую Софию, за дома ангельские“.
Тогда раздвоились люди: кто добрый, тот стоял за святую Софию и за православную веру. И пошли вятшие против меньших на вече и велели им согласиться на число. Окаянные татары придумали злое дело, как ударить на город — одним на ту сторону, а другим — озером на эту. Но возбранила им, видимо, сила Христова, и не посмели.
Испугавшись, новгородцы стали переправляться на одну сторону к святой Софии, говоря: „Положим головы свои у святой Софии“.
А наутро съехал князь с Городища, и окаянные татары с ним. И по совету злых согласились новгородцы на число, ибо делали бояре себе легко, а меньшим зло. И начали ездить окаянные татары по улицам и переписывать домы христианские. Взяв число, уехали окаянные, а князь Александр поехал после, посадив сына своего Дмитрия на столе“ (25, 96–97).
Летописец явно сочувствует тем, кто готов был положить голову за честь „Господина Великого Новгорода“. Действительно, настроения новгородцев не могут не вызывать сочувствия. Но значит ли это, что Александр Невский действовал в данном случае вопреки интересам Руси? Отнюдь нет. Князь „любил“ ордынцев не более, чем восставшие против „численников“ горожане. Но он был правитель — и потому не мог поступать как все. Гордость и мужество — эти коренные свойства натуры Александра — толкали его на путь мятежа. Однако, став кормчим Руси, он потерял право быть самим собой.