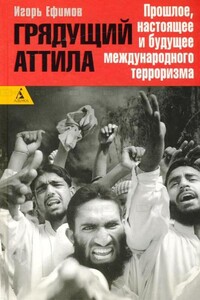Литературная Газета 6314 (№ 10 2011) | страница 30
«Мир – хорошее место, и за него стоит драться». Это, понятно, фрагмент внутреннего монолога Роберта Джордана, который (монолог), честно говоря, всегда казался мне одной из самых прочных опор сложной композиционной структуры «Колокола». Максим Чертанов думает иначе, и это, разумеется, его святое право. Но ёрничать-то зачем: «Где айсберги? Растаяли под жаром агиток?»
В той же стилистической среде пребывают современники, да и предшественники «крутого пацана». Арчибальд Маклиш, тоже, между прочим, фронтовик, а впоследствии директор Библиотеки Конгресса и помощник госсекретаря в правительствах Рузвельта и Трумэна, но главным образом, конечно, один из виднейших американских поэтов минувшего века, фигурирует исключительно под именем Арчи.
Гертруда Стайн, естественно, просто «Гертруда» (хорошо ещё, хоть не «Труди»), хотя, скажем, её близкий знакомец и почти сверстник Шервуд Андерсон и в переписке, и в критических отзывах, и даже, кажется, в личном общении такой фамильярности себе никогда не позволял. «Мисс Стайн» – только так, почтительно и строго.
Ну и, пожалуй, шедевр домашней непринуждённости – оценка американских классиков ХIХ века. Вообще-то это были прекрасные писатели – По, Готорн, Мелвилл. Но в глазах потомков им сильно вредила принадлежность романтической школе, потому что «романтиков в Европе давно за людей не держали».
На таком фоне само собою разумеющейся кажется удивительная безвкусица в названиях глав, в которых воспроизводятся названия фильмов, в том числе и советских-российских («В шесть часов вечера после войны», «Особенности национальной рыбалки», не говоря уж о «Секретаре обкома»), а также панибратская манера обращения с читателем: «знаете ли», «видите ли», «чтение не для слабонервных», «дамы могут открыть глаза» – и т.д.
Впрочем, тут дело не только в стилистическом единстве повествования. Судя по всему (и это очередное открытие), Максим Чертанов весьма скептически оценивает интеллектуальный уровень своего читателя. Да что там говорить – просто считает неучем и недоумком, элементарно не способным отделить жизненную правду от правды художественной.
«Рассказы о Нике – большая иллюзия, в которой виноват не автор, имеющий право выдумывать, что ему хочется, а мы с вами, когда путаем художественные тексты и реальность». Сказано довольно коряво, но всё-таки понять можно: меня убеждают, что Ник Адамс (а также Джейк Барнс, и tenente Генри, и даже герой-повествователь «Праздника, который всегда с тобой») – это не совсем писатель Эрнест Хемингуэй. Правильно, только кто же эти «мы самые», кто «обычно отождествляет»?