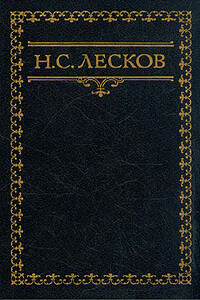Том 20. Жизнь Клима Самгина. Часть 2 | страница 28
Он взглянул на часы и спросил:
— А — не пора?
— Да, — ответила Спивак и, осторожно встав, ушла с ребенком на руках, а Кутузов, улыбаясь, пересел на стул против Клима и спросил очень дружески:
— Так вы находите, что революционеров — мало? А — где вы их видели, каких?
С необычной для себя словоохотливостью, подчиняясь неясному желанию узнать что-то важное, Самгин быстро рассказал о проповеднике с тремя пальцами, о Лютове, Дьяконе, Прейсе.
— Дьякон — Ипатьевский — Сердюков? Сын есть у него? Помер? Ага. А отец — тоже… интересуется? Редкий случай. Значит, вы всё с народниками путаетесь?
— Не путаюсь, а — изучаю, — сказал Клим, уже раскаиваясь в словоохотливости своей.
— Жития маленьких протопопов Аввакумов изучаете? Бросьте. Все это — не туда. Не туда, — повторил он, вставая и потягиваясь; Самгин исподлобья, снизу вверх, смотрел на его широкую грудь и думал:
«Возмутительно самоуверен».
— Особенности национального духа, община, свирели, соленые грибы, паюсная икра, блины, самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужицкой простоте — все это, Самгин, простофильство, — говорил Кутузов, глядя в окно через голову Клима. — Не отрицаю, и в этой плесени есть своя красота, но — пора проститься с нею, если мы хотим жить. И с героями на час тоже надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции. Если вы на такой героизм не способны — отойдите в сторону.
Он закурил папиросу, сел рядом с Климом так близко, что касался его плеча плечом.
— В одном народники правы, — продолжал он потише и раздумчивее, — рабочий народ у нас — хорош, цепкого ума народ, пожалуй, отсюда у него и пристрастие ко всяческой элоквенции. Так что, когда народник говорит о любви к народу, — я народника понимаю. Но любить-то надобно без жалости, жалость — это имитация любви, Самгин. Это — дрянная штука. Перечитывал я недавно процесс первомартовцев, и мне показалось, что провода мины, которая должна была взорвать поезд царя около Александровска, были испорчены именно жалостью. Да. Кто-то пожалел освободителя.
Вошла Спивак в белом платье, в белой шляпе с пером страуса, с кожаной сумкой, набитой нотами.
— Шикарно, — сказал Кутузов. — Не забудь, тетя Лиза…
— Нет, нет, — обещала она, уходя.
Оба молча посмотрели в окно, как женщина прошла по двору, как ветер прижал юбку к ногам ее и воинственно поднял перо на шляпе. Она нагнулась, оправляя юбку, точно кланяясь ветру.