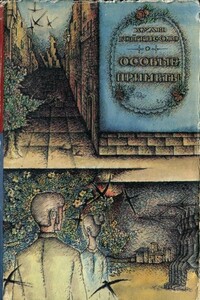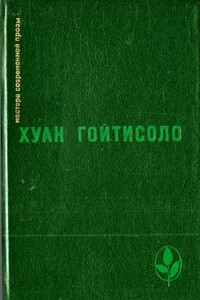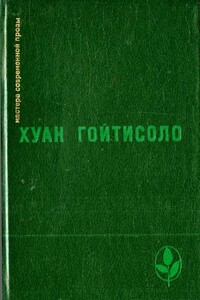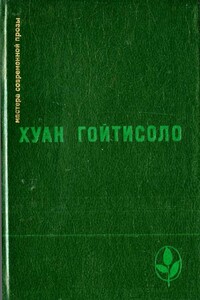Испытание совести | страница 13
В Испании, как ни в одной другой стране, интеллигент является рабом своих настроений, тайно одержимым мыслью о самоубийстве. Духовные силы, не найдя себе применения в условиях политической летаргии, легко становятся источником депрессии. Каждый год приносит новые разочарования. Идеологические принципы, которым вынужден подчиняться наш интеллигент, несовместимы с его нравственными и эстетическими ценностями. Ему ясно, что, если победит дело, за которое он борется, народ преобразится, став похожим на презираемых им европейцев, и он спрашивает себя, стоит ли бороться. Такое противоречие напоминает парадокс рекламы наших отелей: зазывая на «самые спокойные и безлюдные пляжи мира», она способствует нашествию туристов и тем опровергает сама себя. К этому умственному искушению добавляется еще одно, более изощренное. Зная, что сохранение отживших общественных структур — залог долгожданной революции, интеллигент втайне задается вопросом: а не лучше ли подождать, сложа руки, пока суд да дело? Предпочтя журавля в небе синице в руке, он уверен, что следует неопровержимой логике. Если мораль отождествляется с историческим прогрессом, все, что ему способствует, автоматически признается достойным восхваления. В результате интеллигент оказывается в чрезвычайно щекотливом положении: как быть с материальными потребностями пролетариата, который, не дождавшись революции, пытается как-то устроиться при капитализме, хотя и рискует — что произошло, скажем, в Западной Германии — отказаться от своей исторической миссии и обуржуазиться? Тому, кто не принимает в расчет человеческую боль, экономические требования рабочих кажутся чем-то смехотворным. Или все, или ничего: при альтернативе «отказ от действий либо революция» реформистские поползновения для них — самый опасный враг… Понять, что историческое явление может быть объективно прогрессивным и при этом не соответствовать нравственному идеалу, сочетать революционную взыскательность с вниманием к человеку, терпящему лишения, — вот единственный способ выйти из этого кризиса.[9] Противоречия, — подлинные или надуманные, которые силится одолеть испанский интеллигент, на мой взгляд, очень характерны для исторического перепутья, на котором находится Испания.
Анахроничный мир «Виридианы»[10] мог бы стать символом нашей страны. На протяжении столетий испанцы упорно пытались жить вне человечества, повернувшись спиной к истории. Всякий раз, когда она обрушивалась на нас в виде войн, революций, катастроф, мы оказывались неподготовленными и безоружными. За нашей легендарной гордостью на самом деле кроется болезненный страх перед новыми идеями. Если, например, мы ставим вопрос о вхождении в «общий рынок», то делаем это, чтобы уйти от проблемы нашей отсталости, то есть пытаемся изображать общество XX века, хотя — во всяком случае, с политической точки зрения — прозябаем еще в XIX. По аналогичным причинам большая часть рабочих предпочитает индивидуально решать свои экономические проблемы, эмигрируя во Францию или Германию, вместо того чтобы бороться с ними коллективно: ведь это труднее и требует смелости.