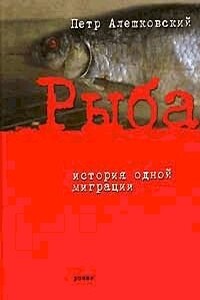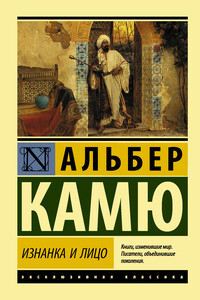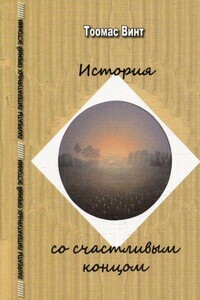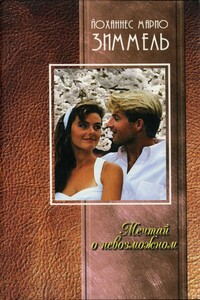Жизнеописание Хорька | страница 54
8
Сперва он понять не мог, не хотел и знать, где находится и зачем: так, где-то в отдаленном островке мозга засело, что у реки, но он только вжимался в ладошки, в траву, затоптанную купающимися здесь днем мальчишками. Он лежал долго, пока земляной холод не пробрал насквозь, и он отполз от кустов, от мокрой тени на солнцепек, на потертую лысину пригорка, перевернулся уже на спину, заложил руки за голову и бездумно и молча глядел на синее небо. Где-то ниже, у реки, вопила и брызгалась детвора, тарахтели и визжали лодочные моторы, но он лег так, чтоб ничего, кроме неба, не видеть – ни воды, ни города, – стянул кроссовки, подставил сморщенные, распаренные пятки ветерку. Солнце грело и жгло, от его тепла и ярких лучей он жмурился, сквозь узкие щелочки следил, как лепятся облака, как выплывают уже из подтянувшихся, высоких, серых и тяжелых, разные диковинные фигуры.
Тут только захоти – и увидишь и зверя, и руку с кастрюлей, и хвост, и голову, и выпуклый, свирепый глаз, и старика нищего, что закутал голову в лохмотья пледа, чтоб оттенить худобу и пороховую бледность своего лица, вызвать жалость, вытащить у дурака сострадателя заишаченный гривенник.
Он давно заметил, что линия его успокаивает, но не всякая, не прямая и нервная, а чем более извилистая, тем лучше, тем спокойней она ложится на глаз.
Какая была красивая фигура у Валюши разнеженной, лежащей на диванчике, застывшей и умиротворенной, и какое нагромождение рваных, резких углов сегодня – летающие руки, дергающийся глаз, в полоску стянутые презрительные губы, когда она отбивалась, наступала, гнала прочь.
Он вспомнил вдруг деревенскую девчонку из дома, где он стянул ружье. Вспомнил всю картинку, как она завязывала отцу галстук, как бегал вокруг пацаненок и как вдруг все исчезло, когда она вышла уже во взрослом платье, подчеркнуто иная, чуть одеревенелая, с чопорным отцом в дурацком пиджаке.
Хорек сорвал травинку, пожевал, выплюнул вместе с салатной слюной, чуть горькой, даже приятной. Мальчишки в деревне, у бабки, стращали печеночным сосальщиком, что живет в корнях травы, – он быстро-быстро проникает в живот и размягчает печень, разлагает ее, и человек в муках помирает. Он тогда представлял его себе не как безногого микроба, а как нечто телесное, склизкое – такую улитку с ножками уховертки, и, побаиваясь, затаив дыхание и всматриваясь в травинку, все равно тянул в рот и сосал ее сок – живой, терпкий, свежий, долго не испаряющийся с языка. Вспомнив свой тогдашний страх, он только хмыкнул и сорвал новую, уже толстоногую осочину и осторожно, чтоб не порезать губы, запихал ее в рот и мял до состояния кашицы, пощипывающей не перетертыми вконец ворсинками то за язык, то за щеку, упорно, как бычок на пойме ввечеру.