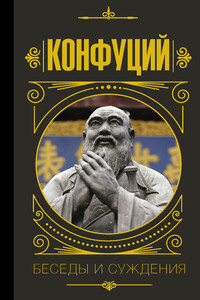Конфуций. Суждения и Беседы | страница 77
Он учится у Академика В. П. Васильева – одного из первопроходцев российской науки о Китае, который сам воспитывался в духовной миссии в Пекине, выстаивал молебны и выкраивал свободное время для изучения буддизма и конфуцианства. Именно от своего учителя Попов перенимает любовь к переводам китайских классических текстов, и, как полагают некоторые исследователи, известную небрежность в их переводах, попытки адаптировать под русское восприятие. Школа, сложившаяся вокруг В. П. Васильева, отличалась известным своеобразием. С одной стороны – сам Васильев, яркий, образованный; с другой стороны – нередко негативное восприятие Китая как некоего «непроросшего Запада». Здесь мы вновь прибегнем к описанию В. М. Алексеева – трудно сказать точнее и ярче. Он так выразил суть школы В. Васильева: «Китайцы – народ «мудреный», но не «мудрый»; письменность заслоняет сущность, которая ничтожна; конфуцианцы в течение 2500 лет морочили Китай; буддизм и даосизм – тем паче; научиться китайскому языку нельзя, ибо сами китайцы своего языка не знают... кроме того, Китай – грандиозный и сплошной фальсификатор; ни к чему нельзя прикоснуться – все подделано, ненадежно (2, 97).
В 1870 г. П. Попов в звании кандидата оканчивает университет и его тотчас берет на работу Азиатский департамент МИД. Его сразу же направляют в Пекин сверхштатным студентом дипломатической миссии, через год переводят в «штатные студенты». Он быстро продвигается по дипломатической линии, уже через два года после приезда он становится вторым драгоманом (переводчиком и консультантом), а в 1877 г. – первым драгоманом. Наконец, в 1886 г. он становится Генеральным Консулом в Пекине и именно в этот период начинает заниматься переводами китайской классики, следуя в этом деле за своими предшественниками – стажерами Русской духовной миссии в Пекине (среди которых был некогда и сам В. Васильев).
Можно выделить несколько характерных черт становления русского китаеведения, отразившихся в карьере и творчестве П. Попова. Прежде всего, русское китаеведение носило очевидно прикладной характер – огромная общая граница с Китаем требовала от китаеведов не только отвлеченно-созерцательного изучения китайских древностей, но и решения конкретных политических и торговых вопросов.
Во-вторых, в сознании многих востоковедов происходил как бы надлом между уважительно-восхищенным отношением к китайской мудрости и жестко-прагматичной китайской политической реальностью, доходящей до цинизма. Китай выступал то как «мудрый», тот как враждебно-непонятный. Он в любом случае не укладывался в привычные схемы, был слишком разнородным, дисперсным, чтобы найти ему аналог в измерениях западной религии и философии. Споры о характере китайской культуры шли постоянно (впрочем, не затихают они и до сих пор), китаисты разделились на две ярко выраженные группы, суть которых очень точно передал академик В. М. Алексеев в своей статье от 1935 г.: