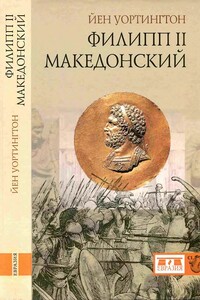Навстречу смерчу | страница 14
По-моему, не стоит искать желанный образ страны социализма, каким он виделся Сталину в воображении, в официальных пятилетних планах: во-первых, он сам начинал ломать их в сторону "повышения", "ускорения" и т. д. на второй день их жизни; во-вторых, эти планы слишком многословны, подробны и широки, а цель, которую человек сам себе ставит, обычно проста и легко представима.
Какой же образ общества - принципиально нового, самого сильного и передового, "готового к труду и обороне", мог носить в себе Сталин?
Образ социализма был, как и все основные представления Сталина о мире, полуинтуитивным, основанным на эмоциональных впечатлениях и иллюзиях, кажущихся очевидной истиной. Какими могли быть эти иллюзии и представления? Естественно предположить, что они сложились у Сталина еще до прихода к власти, Сталин родился, рос, формировался в эпоху, когда ощущение происходящего прогресса не могло миновать никого, за исключением разве что монастырских, ушедших от мира, братьев и сестер. О прогрессе можно было даже не говорить, жизнь даже могла становиться не лучше, а хуже,- но ощущение прогресса и предчувствие наступающей новой эпохи, неведомой и захватывающей, все равно было, потому что в будни и в праздники раз за разом вторгалась невиданная чудесная техника, будто шутя разрешавшая неразрешимые проблемы, делавшая невозможное возможным. Для детей и взрослых (и не только провинциалов) впервые увиденная электрическая лампочка или железная дорога становились потрясением на всю жизнь. А щедрое время преподносило все новые и новые сюрпризы: телефон, трамвай, самолет, радио... Постепенно рос и укоренялся бессознательный, спонтанный культ машины. Все живое, естественное, рождающееся и растущее само собой казалось слабым и обреченным на вымирание. Все сделанное искусственное, изобретенное "от" и "до" рисовалось могучим, устремленным в будущее. Паровоз несравненно сильнее и полезнее лошади. Самолет неизмеримо лучше птицы. Отсюда возникло безотчетное ожидание нового машинообразного общества и машинообразного человека. "Идея правильной организации бытия пронизывала духовную атмосферу того времени",- замечает доктор философских наук Г. С. Батыгин{1}. Нетрудно обнаружить такие настроения и в литературе 20-х и 30-х годов. Для этого не обязательно обращаться к механистическим фантазиям Маяковского и других футуристов. Восторженное уподобление живого человека чему-то сделанному, какой-то машине или детали встречалось сплошь и рядом. Язык оккупировали словосочетания типа: "железный нарком", "железная дисциплина", "железный конь".