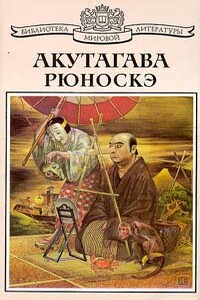Намек на объяснение | страница 7
Думаю, я решился на этот ужасный поступок — понимаете, нам он всегда должен казаться ужасным. И решился в тот миг, когда увидел Блэкера, наблюдавшего из задних рядов. Он надел свой лучший воскресный костюм и, словно неизгладимый след профессии, на щеке у него виднелась полоска присохшего талька — должно быть, порезался своей страшной бритвой. Все время он пристально наблюдал за мной, и думаю, что следовать его инструкциям меня побудила не только алчность, но и ужас перед этим неведомым «кровопусканием».
Второй мальчик живо поднялся и понес перед отцом Кэри блюдо с облатками к алтарной преграде. Там стояли на коленях прихожане. Облатка лежала у меня под языком лежала, как волдырь. Я встал и направился к занавеске за флаконом, который нарочно оставил в ризнице. Там я быстро посмотрел, куда бы спрятать облатку, увидел на стуле старый экземпляр «Юниверс». Я вынул ее изо рта и положил между страницами — она уже превратилась в комочек каши. Потом подумал: может быть, отец Кэри выложил газету с какой-то целью и найдет облатку раньше, чем я смогу ее забрать. Я попытался представить себе, какое последует за этим наказание — и тут, наконец, осознал всю чудовищность своего поступка. Придумать наказание за убийство достаточно просто, но какая последует кара за этот поступок, я даже вообразить не мог. Я попытался вынуть облатку, но она прилипла к бумаге я в отчаянии оторвал кусок страницы, закатал в него мокрый комок и спрятал в брючный карман. Я вышел с флаконом из-за занавески и встретился глазами с Блэкером. Он ободряюще улыбнулся мне, но взгляд у него был несчастный — да, я уверен, несчастный. Неужели бедняга все время искал что-то, не поддающееся порче?
Остаток дня почти не помню. Я, наверное, был оглушен, ошарашен, и меня захватила воскресная семейная суета. Воскресенье в провинциальном городе — день родни. Вся семья дома набившись на задние сиденья чужих машин, приезжают незнакомые дядья и кузены. Помню, к нам нагрянула как раз такая толпа, и мысли о Блэкере на время отодвинулись. Явилась какая-то тетя Люси, дом наполнился механическим весельем, дом наполнился ее громким глухим смехом, похожим на записанный смех в зале кривых зеркал, и если бы я даже захотел, у меня не было возможности выйти одному. А в шесть часов, когда тетя Люси и двоюродные уехали и вернулась тишина, идти к Блэкеру было уже поздно — в восемь меня отправляли спать.
Я почти забыл, что у меня в кармане. Когда я стал его опорожнять, бумажный катышек сразу напомнил мне о мессе, о наклонившемся ко мне священнике, об улыбке Блэкера. Я положил его на стул возле кровати и старался уснуть, но меня преследовали тени на стене от колышущейся занавески, поскрипывание мебели, шорохи в дымоходе, не давало уснуть присутствие Бога, там, на стуле. Гостия всегда была для меня… всегда была телом Христовым. Говорю, я знал теоретически, во что должен верить, но вдруг, когда кто-то мне свистнул за окном, на дороге, свистнул секретно, как сообщнику, вдруг я понял: то, что лежит рядом с кроватью, есть нечто бесконечно ценное, и кто-то может заплатить за это всем покоем души, кто-то может так это ненавидеть, что ты полюбишь это, как любишь отверженного, как любишь всеми обижаемого ребенка. Это — взрослые слова, а в постели лежал испуганный десятилетний мальчик и слушал свист с дороги, свист Блэкера — но мальчик вполне ясно ощущал то, что я вам сейчас описываю. Вот что я имел в виду, когда говорил, что оно хватается за любое оружие против Бога и всегда, везде терпит крах в момент успеха. Оно, вероятно, было так же уверено во мне, как Блэкер. И в Блэкере, вероятно, было уверено. Но если бы знать, что стало потом с этим несчастным человеком… интересно, не оказалось ли так, что оружие вновь обратилось против того, кому или чему должно было послужить.