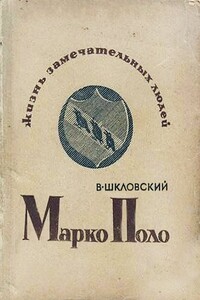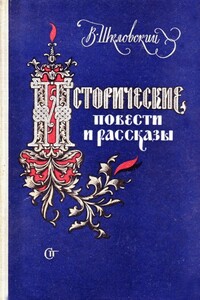Гамбургский счет | страница 20
Для самого Шкловского проблема жанра и научного языка в эти года вставала не столь остро. Его раз и навсегда утвердившийся синкретический стиль свободного размышления, включающий самый разнородный материал и не заботящийся о мотивировках, стыках и переходах, легко переключался из литературы в «быт», из теории в «художество» и обратно. Он продолжал сохранять «следы инструмента», оставался провоцирующим, вопросов давал больше, чем ответов. Но все же его проза двигалась под уклон.
«Третья фабрика» (1926), «Гамбургский счет» (1928) при всей разносоставности являлись целостными вещами, обеспеченными единством теории и авторской позиции. Когда это единство нарушилось, книги стали рассыпаться.
Черты разнокалиберности состава видны уже в «Поденщине» (1930), но особенно явственны в «Поисках оптимизма» (1931). Автор писал, что единство книги – «в человеке, который смотрит на свою изменяющуюся страну и строит новые формы искусства для того, чтобы они могли передать жизнь»[88]. Мотивировка оказалась слишком общей или мнимой, книга осталась конгломератом разномасштабных текстов. Жанр «книга Шкловского» в том смысле, в каком им были «Ход коня» или «Гамбургский счет», прекратил свое существование. Изданный в 1939 г. «Дневник», нося все вторичные признаки такого жанра («Предисловие», «Эпилог», обоснование отбора), по сути, не имел уже к нему отношения, став просто сборником статей.