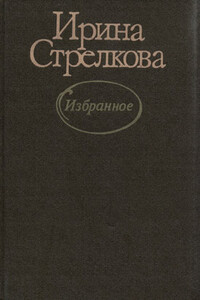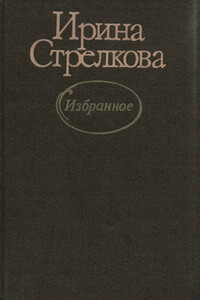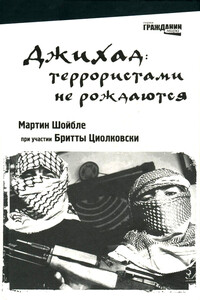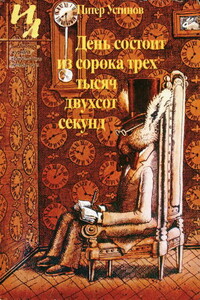Наш Современник, 2004 № 06 | страница 38
Игра Свиридова на фортепьяно обладала легко узнаваемым почерком: эмоциональной целомудренностью, подчас даже холодностью, поразительной точностью и богатством мельчайших оттенков, подчеркнутой аккуратностью, безукоризненной чистотой звука и педали, безупречной текстовой выверенностью, совершенством технического воплощения самых сложных пассажей. В ансамбле даже с великими солистами он всегда был не аккомпаниатором, а ведущим. (Критикуя какой-то один мой романс, он поучал: “Если фортепьяно дублирует вокальную строчку — это просто аккомпанемент, а если имеет свою собственную линию — это уже ансамбль”.)
Когда он уже не мог принимать участия в концертах сам, волнения его продолжали нарастать по мере приближения выступления. Если артисты были молодые, он часто звонил и каким-то жалостливым тоном спрашивал: “Как вы думаете, справятся? Не подведут? Ну, будут стараться, правда?”.
Приходил задолго до начала концерта и прятался в комнатке, отгороженной от общего фойе, следя за поступлением публики: “Как вы думаете, придут?” “Ну, поползли!” — шутил он удовлетворенным тоном. Когда на следующий день я по телефону поздравлял, благодарил и т. д., он обычно извинялся: “Не мог уделить вам должного внимания: ничего не соображал от волнения”.
Очень переживал, если не мог по состоянию здоровья присутствовать на том или ином концерте. Однажды совсем расстроился, когда узнал, что один из премьерных спектаклей “Царя Бориса” в Малом с его музыкой, куда он был не в состоянии пойти, посетил тогдашний министр культуры.
Он со смехом вспоминал, как перед началом исполнения “Патетической оратории” великолепный Натан Рахлин, прежде чем выйти на сцену, погрозил кулаком в сторону Комиссии по Ленинским премиям, грозно прошипев: “Ну я им сейчас покажу!” Дело в том, что многие интриговали тогда, чтобы, как говорится, “зарубить” это сочинение.