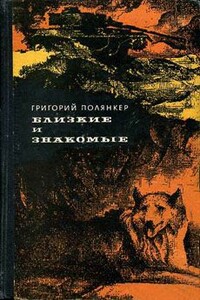Наш Современник, 2003 № 06 | страница 38
Разумеется, не все в его творчестве стало народным, но у Пастернака не стала народной ни одна строка, и не потому, что Есенин к этому специально стремился, а Пастернак сознательно избегал этого, а потому, что одному это было дано, а другому не дано. И умаление Есенина под видом отдания ему должного — это месть ему за его народность, за его “моцартианство”. Это месть Сальери Моцарту, та щепотка яду, которая подсыпана в его питье.
* * *
О чувстве национального
Судьба коренной нации мало интересовала Пастернака. Она была ему глубоко чужда и винить его за это не приходится, нельзя! Он был здесь в сущности чужой человек, хотя и умилялся простонародным, наблюдая его как подмосковный дачник, видя привилегированных людей пригородного полукрестьянского, полумещанского слоя (см. стих “На ранних поездах”). Россию он воспринимал, со своим психическим строением, особенностями души, не как нацию, не как народ, а как литературу, как искусство, как историю, как государство — опосредованно, книжно. Это роднило его с Маяковским, выросшим также (в Грузии) среди другого народа, обладающего другой психикой и другой историей.
Именно этим объясняется глухота обоих к чистому русскому языку, обилие неправильностей, несообразностей, превращение высокого литературного языка в интеллигентский (московско-арбатский!) жаргон диктатурой пролетариата. Пастернак был далек от крайностей М — прославления карательных органов и их руководителей, культа преследования и убийства, призывов к уничтожению русской культуры, разграблению русских церквей.
Но по существу своему это были единомышленники — товарищи в “литературном”, поверхностном, ненародном. Оба они приняли как должное убийство Есенина.
Ныне — этот нерусский взгляд на русское, по виду умилительно-симпатичный, но по существу — чужой, поверхностный, книжный и враждебно-настороженный, подозрительный, стал очень модным поветрием. Он обильно проник в литературу, размножившись у эпигонов разного возраста. Популяризацией его является проза Катаева, поэзия Вознесенского, Ахмадулиной и Евтушенко(-Гангнуса). По виду это — как бы противоположное Авербаху, Л. Либединскому. А по существу — это мягкая, вкрадчивая, елейная, но такая же жестокая и враждебная, чуждая народу литература. И пробуждения национального сознания они боятся — панически, боятся больше всего на свете.
Они воспринимали исторические события книжно, от культуры, через исторические ассоциации, параллели, которые давали возможность легких поверхностных выводов. Это делало их слепыми и глухими к жизни.