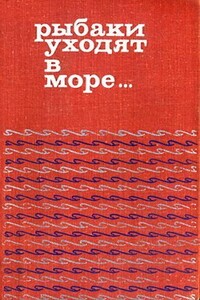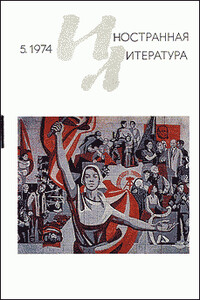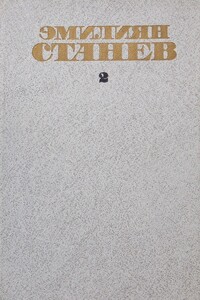Наш Современник, 2002 № 06 | страница 20
— Когда, после прихода заградителя в порт, мне доложили об этом, — вспоминал Арсений Григорьевич, — я поначалу не поверил. Как-никак, а мина весит около трехсот килограммов. Попробуйте теперь поднять, говорю им. Они эту чушку и пошевелить бы не сумели. А во время боя — выбросили!.. Как поступить с ними? Наградили орденами. И в местной многотиражке напечатали. А что — мало?
Манера его разговора была скуповатой, спокойной, без лишней цветастой детализации. И чуть-чуть отдавала военным докладом. Сказывалась многолетняя профессиональная привычка. “Отвечаю”, “Докладываю”, “Смею заметить”. Вроде бы совсем не художественный подход в передаче того или иного жизненного эпизода. А в то же время события в его пересказах вставали перед тобой в полный рост, наполнялись живой кровью. Имели цвет, запах. И запоминались надолго. Как оказалось, на всю жизнь.
И еще в памяти встает такая картина. По каналу имени Москвы бежит маленький теплоходик. Речной трамвайчик. На палубе трамвайчика — весь наш курс. С педагогами. Принимает нас адмирал Головко: сие плавсредство принадлежит военно-морскому ведомству. На корме полощется по ветру флаг с синей полосой и звездочкой. Весна. Май. Солнышко сияет. Вода поблескивает. За кормой расходится двумя усами пенистый след. Отражение взбитой волны солнечными зайчиками бежит за нами по крутым откосам канала. На палубе — веселье. Гитарный звон, песни. Идем в сторону Песковского водохранилища. По левому борту чудесная, вся прохваченная солнцем березовая роща. Пристаем. Матросы на взгорке расстилают что-то вроде скатертей. На них все, что хранилось в камбузе теплоходика и его холодильнике. В закопченном казане булькает, поспевает картошка.
— Арсений Григорьевич, ваш первый тост!
Смотрит на рюмку серыми, остро прорезанными глазами. Медлит. И, оглядев вокруг все, что открывалось взгляду, говорит:
— Хорошо...
Мы ждали продолжения.
— За это и выпьем, — уточнил адмирал.
— Арсений Григорьевич, и это — все?
— А что — мало?..
В те первые годы учебы в Школе-студии я начал собирать собственную коллекцию человеческих образов. Делалось это непроизвольно, но в этом была все-таки профессиональная, как бы теперь сказали, необходимость. Я старался не просто замечать, видеть, наблюдать за жизненными явлениями, людскими образами, судьбами, но и систематизировать их, ставить в очередность, выдвигая на передний план самое интересное (для меня), нужное, необходимое. Это избавляло меня от всеядного, “плюшкинского” собирательства любой завалящей железки или стоптанного башмака. Тут намечался какой-то порядок, система. Я как бы говорил персонажам моей “людской библиотеки”: “Становись в первый ряд, ты, я чувствую, скоро мне понадобишься... Ты чуть-чуть подожди. Твое время скоро настанет... А ты — отдохни. Побеждает тот, кто умеет ждать”.