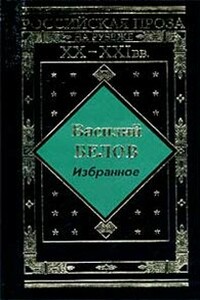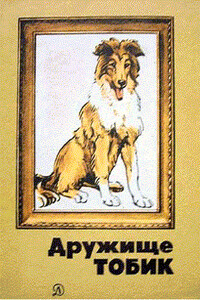Наш Современник, 2002 № 01 | страница 57
При мне и даже с моим пассивным участием зашел в 1987 году разговор между двумя видными академическими демократами. Один из них, известный историк психологии М. Г. Ярошевский, выражал опасение — перестройка, мол, встречает глухое сопротивление, появляются люди, которые могут дать этому сопротивлению форму, язык. И он сказал с глубокой, необычной для него тревогой: “Вот и Кожинов очень опасно выступил”. Я не знал тогда, кто такой этот Кожинов, в чем суть его выступления, но сама тревога М. Г. Ярошевского и то понимание, какое она встретила у его посвященного собеседника, дали мне прилив силы. Я как будто на скользком склоне нащупал ногой твердое место.
Не знаю, как проходил в душе Вадима Валериановича выбор его позиции в открывшемся тогда противостоянии, но он сразу вышел на главный участок фронта, на острие конфликта. Мало об этом говорят, суть признается глухо, но главная война XX века — столкновение разума с иррациональной силой. Столкновение это сложно и принимает причудливые формы.
Иногда это прямая и видимая атака темных инстинктов на Просвещение — так, как оно было воспринято и преломилось в нашей культуре. Но чаще всего темные инстинкты украшены прекрасными словами и выступают против разума и истины под знаменем сердца и чувства. Они легко собирают под это знамя людей, угнетенных холодной ньютоновской картиной мироздания.
С другой стороны, и под знаменем Просвещения часто собирается столь же темный иррационализм, хотя и другого рода. Здесь разум уступает место уму, интеллекту. Рациональность этого холодного интеллекта на деле есть цинизм, а идеалы Просвещения вывертываются в неоязычество и фундаментализм либерального индивидуума.
В. В. Кожинов не уклонился от этой драки, в которой трудно отличить лицо от личины. Не уклонился, не побоялся оступиться — потому, что тут и варился смертельный для нас яд, тут надо было воевать с отравителями и спасать отравленных. И он был лучше других подготовлен для этой борьбы. Оказалось, что к этому времени он очистил, перекристаллизовал свои критерии, отточил интуицию. Да и возраст уже позволял ему не суетиться, не подлаживаться к силе господствующего мнения и не оправдываться за действительные или мнимые ошибки.
Это было счастливое для нас совпадение всех обстоятельств. В критический момент оказался в нашей культуре человек, определенно вставший на сторону истины и идеалов православного Просвещения. Человек, отвергший соблазны любого фундаментализма, соединивший строгую логику со здравым смыслом — и в то же время не утративший ни русского духа, ни русского космического чувства.