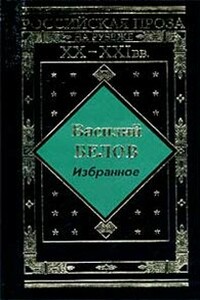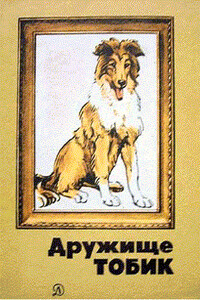Наш Современник, 2002 № 01 | страница 43
Он вошел. Выше среднего роста, в очках, с лихой шевелюрой, худощавый, порывистый, слегка ироничный. Начал говорить — и через пять минут могущественно завладел залом. Говорил о современной поэзии, говорил не шаблонно, глубоко, ярко. Для убедительности приводил примеры, читая наизусть поэтов, чьи имена мне, по большей части, не были знакомы. Читал так горячо и доверительно, так вдохновенно, что зал, завороженный магией его речи, растворился в звучащем поэтическом слове.
Потом, словно желая поиграть, проверить нашу эрудицию, он разложил на столе карточки с безымянными “обезличенными” стихами. Пустил карточки по рядам и попросил указать точное или предполагаемое имя автора.
Что и говорить, большинство из нас, сидящих в зале, исходящих, как тогда думалось, из обширных, а на самом деле скудных знаний, не дало верных ответов. Стихи казались написанными в самое последнее время, настолько современно они звучали. На обороте карточек мы указывали новомодные, авангардные, даже экзотические имена, не узнав хрестоматийных поэтов Золотого века. Те стихи не были на слуху и были взяты не из школьных учебников.
Посрамленный, я вернулся домой и кинулся штудировать классиков. Позднее, поступив в Литературный институт и уже профессионально следя за работами Кожинова, я прочитал, а точнее, проглотил его книгу “Как пишут стихи”. До сих пор не знаю ничего подобного, равного по глубине, ясности и страстности из написанного в этой области литературоведения. Книга настолько поразила меня, что я стал искать встречи с ее автором и осенью 1979 года пришел на занятия руководимой им студии на Красной Пресне.
То были годы жгучего интереса к поэзии. Не эстрадной, не декларативной, а лежащей в сокровенной области души. Вопросов здесь оказалось больше, чем ответов. “Тихая лирика” своим волшебным языком по-своему отвечала на них. Поэтическая “планка”, которую поднял Кожинов перед студийцами, терялась за облаками. Но к ней хотелось приблизиться. Еще бы, ведь ориентирами для руководителя являлись высшие творения, явленные гением Пушкина, Тютчева, Боратынского, Фета, а также наиболее значительные произведения наших современников, которые в те годы были малоизвестны широкому читателю.
Духовно влияя, он сам напитывался разбуженной им энергией. То был воздух бескорыстного служения Поэзии, дружеского участия, но и некоторого беспокойства. В студии царила атмосфера как радости истинного творчества, так и особой тоски по несозданному, столь понятная всякому художнику. Как знать, может быть только в такой обстановке и способна обитать истина?