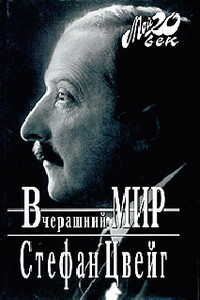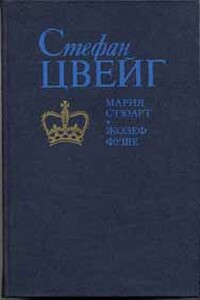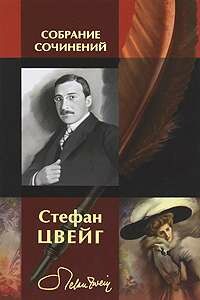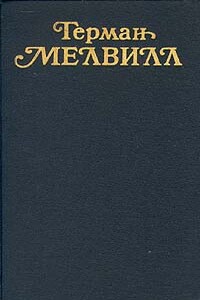Встречи с людьми, городами, книгами | страница 45
Он — вечный противник анархии: анархии духа, который не хочет подчиняться догме, анархии государства, которое в себялюбивом неповиновении противится миропомазанному властелину мира, анархии чувств, которые бунтуют в жажде наслаждений, анархии формы, которая в поэтическом произведении не завершена, но подчинена всякого рода правилам — вплоть до правил числовой игры. Догматик духа неизбежно является и поборником упорядоченности в поэзии. Но — неповторимое и не вероятное свойство мужественного гения Данте — у него, единственного грезы не костенеют, сжатые схемой, слово не становится бездушным под бременем понятия, ученый не парализует поэта, а окрыляет его для полета ввысь. Этот человек духа, этот богослов писал языком чувственно-осязаемым и сочным, как плоть, и в то же время твердым, как мрамор: никогда больше итальянский не достигал такой лапидарности и вместе с тем мелодичности. Правда, он стал потом более распутным, более причудливым, более изнеженным и женственным, он таял на языке, как перезрелый плод, но никогда больше он не достигал многообразия и напряженного ритма этой неразрывной цепи терцин, которые то тихо и нежно звучат, словно челеста, то сурово и грозно стучат, как скрестившиеся мечи. «Poeta scultore», брат Микеланджело, он высекает слова христианского закона на своих новых скрижалях Моисеевых: каждый шов зацементирован, каждый размер сбалансирован, и вся обширная, как мир, композиция упорядочена согласно таинственным правилам кабалистической игры чисел. К тому же вступает в свои права таинственный процесс отражения: каждое видение, каждая фигура, даже каждое слово имеют, в свою очередь, аллегорический смысл. Трехчленность композиции и самые терцины имеют в основе божественную троичность, подобно тому как церковь имеет в плане очертания креста. Произведение Данте, как он сам объясняет в своем «Пире», и в частностях и в целом «polysensum plurium sensuum», многозначно и таит множество смыслов. Тончайшая осязаемая поверхность всегда скрывает духовный, но по большей части теологический символ, зачастую темный, как сивиллины книги, и едва разгадываемый; за обычным смыслом прячется более возвышенный, повсюду поэт, как сказал Гете, выдавая свою собственную тайну, «находит средство с помощью противостоящих друг другу и друг друга отражающих образов открыть созерцающему некий сокровенный смысл». В каждой из дантовских скульптур, так же как у греков, изображен человек, но имеется в виду бог. Каждая строчка двойственна, двузначна, в ней есть зерно и есть оболочка, от которой его следует освободить. Закон гетевской природы — «и то, и другое одновременно» — здесь недействителен. Возвышенный дуализм: величайший визионер средневековья — в то же время и величайший систематик, величайший ваятель выпуклого чеканного слова, и он же величайший мастер символа, двузначности.