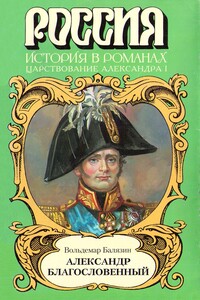Русско-прусские хроники | страница 7
Так как действие романа начинается в средневековом Кенигсберге, я полагаю уместным поместить и этот фрагмент в «Русско-Прусских Хрониках». Литературные мистификации — жанр чрезвычайно редкий, и после «Заговора в Ватикане» я снова возвратился к моим излюбленным научно-популярным и художественным произведениям.
И снова Барклай де Толли не оставляя меня в покое и после того, как монография о нем вышла в свет. Он представлялся мне фигурой трагической и величественной, каким видел я его и Пушкин, и многие современники, и немалое число наиболее непредвзято мыслящих потомков.
В моей жизни Барклай занимал особое место: еще в 1959 году, в книге «Памятники Славы» я, кажется, первым из русских историков поместил изображение памятника, поставленного на месте смерти полководца, случившейся неподалеку от Инстербурга, в имении Штилитцен 14 мая 1818 года. После этого я несколько раз приезжал в Штилитцен (теперь называющийся поселком Нагорный) в помещичий дом, чудом уцелевший во время последней войны, но уже сильно поврежденный его нынешними обитателями — рабочими совхоза, рассказывал им о Барклае, об Отечественной войне 1812 года. Рабочие слушали со вниманием, обещали беречь дом, но время и бесхозяйственность брали свое — некогда крепкий, толстостенный каменный дом ветшал и постепенно превращался в руину.
Я ходил в Обком партии, потом в Управление Культуры Облисполкома, писал в «Калининградскую правду», везде мне сочувствовали, проявляли полное понимание, однако дальше слов дело не шло. Не изменяется положение и теперь. А более счастливые современники Барклая — фельдмаршалы Кутузов и Веллингтон, Блюхер и Шварценберг, не говоря уже о шведском короле Бернадотте и императоре Наполеоне, увековечены во многих музеях, а места их смерти являются предметом национального почитания. Обойденный посмертной славой, Барклай и при жизни был обделен народной любовью, что позволило Пушкину написать о нем такие строки: