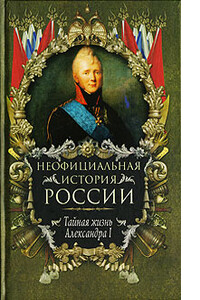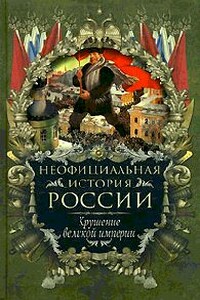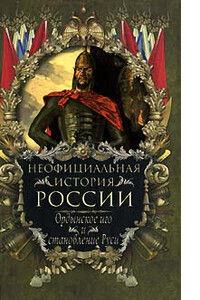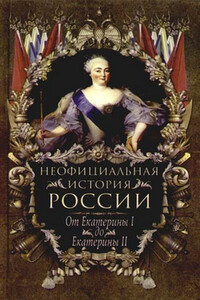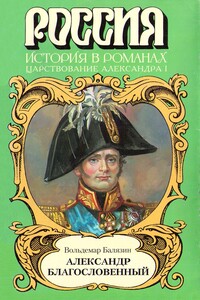Эпоха Павла I | страница 78
Последняя строка этого стихотворения стала крылатым выражением, которое дало повод Пушкину сказать в заметке «Опыты отражения некоторых нелитературных обвинений»: «Я заметил, что самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедливо? Ведь это напечатано».
Одной из отличительных черт русского национального характера является непреодолимая вера в светлый идеал. Ее-то и подметил наряду с другими Николай Михайлович Карамзин и поэтически выразил в богатырской сказке «Илья Муромец», написанной в 1795 году:
В Москве дважды прошла пьеса французского драматурга Жана Батиста Николе (1710–1796) «Сорена». В пьесе этой был такой монолог:
Московский главнокомандующий граф Яков Александрович Брюс (1742–1791) усмотрел в этих строках крамолу и, приостановив дальнейшую постановку пьесы, послал Екатерине II письмо с приложением этих стихов.
Екатерина ответила Брюсу так: «Удивляюсь, граф Яков Александрович, что вы остановили представление трагедии, как видно, принятой с удовольствием всею публикою. Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого отношения не имеет к вашей государыне. Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью». Очевидно, что Екатерина обыграла здесь то, что в последней строке автор сетовал на то, что «в монархе не всегда находим мы отца», а императрица ну уж никак не могла называться «отцом», оставаясь «матушкой-государыней».
Теперь же ознакомимся с фрагментами из жизни русского общества времен правления Павла I (1796–1801) и дадим всего лишь один анекдот из времени, предшествовавшего его царствованию.
Павел Петрович, будучи наследником престола, приехал в один из монастырей и услышал жидкий звон небольшого треснутого колокола.