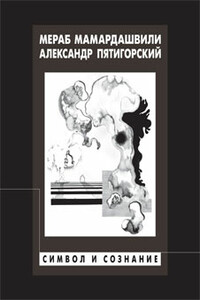Психологическая топология пути | страница 62
Сейчас я окончательно хочу наложить мазки на тему неизвестной страны, неизвестного. Мы уже добавили кое-что к неизвестному. Например, мы ввели термин «родина», «неизвестная родина», и мы знаем со слов Пруста (а если подумаем, то это совпадает и с нашим опытом), что родина художника — неизвестная родина. Ни у какой родины нет собственности на крепостных мастеров, которые называются художниками. Художники рождаются только в неизвестной родине. То есть художниками рождаются люди, больные острым чувством реальности, той, которая ни на что не похожа (вот глаз устроен таким образом и тем самым отслаивается в своих переживаниях); они как бы отслаиваются от других, у них всегда ностальгия по чему-то, чего никогда не было, но что переживается как нечто утраченное. Например, утраченный рай (часто фигурирует такой символ). Пруст замечает: всякий рай есть только утраченный рай[102]. Конечно, рая этого не было никогда. Но он так называется — утраченный рай. Какая-то другая жизнь. И независимо от того, есть она или нет, — а мы как раз говорим, что она никогда не имеет никакой материализации, — сам этот комплекс, или структура сознания «другого», есть продуктивный элемент нашей человеческой жизни. Человеческой душевной жизни, самой простой, переживающей другие вещи, но переживающей их под этим углом. Поэтому можно сказать, что вся работа пути Пруста начинается с двух великих вещей: с сомнения и с того, что французы называют (трудно это перевести на русский язык и на грузинский тоже — есть оттенок движения в самом существительном), l'йcart, отрыв, отступ, гандгома, l'йcart и — сомнение. Значит, мы имеем две вещи, которыми занимается человек, у которого есть острое сознание, названное нами неизвестным. Острое сознание реальности мы назвали чувством неизвестного и поиском своей неизвестной родины. Или. попыткой сохранить голоса этой родины, которой нет. И которая не есть никакая из тех, в которых прописаны. Вот, значит, сомнение и абсолютный l'йcart — с этого начинается прустовская работа. Пруст вообще считал, что серьезными вопросами являются только вопрос Вечности души, вопрос реальности Искусства и вообще Реальности[103]. (Значит, есть проблема реальности души, есть проблема реальности произведения и есть проблема реальности.)
Если у тебя есть острое чувство неизвестного, то у тебя возникает один вопрос, в свете которого ты замечаешь те факты, которые есть и которые можно было бы не заметить. В том числе замечаешь то, что я называл чувством живого. Чувством жизни (я частично отождествлял чувство жизни с сознанием). То, в чем мы чувствуем себя живыми. Формально передать этого нельзя. Ясно. Интуиция жизни непередаваема. Но каждый в себе это может ощутить. Знать. Так вот, дело в том, что мыслитель, или художник, раскручивает весь мир под знаком этого вопроса — какого вопроса? — Это ведь должно иметь смысл — какой смысл? Какой смысл в моем ощущении себя живым, если на первый взгляд мир устроен так, что в нем это места вообще не имеет? Ну какое отношение мое живое переживание розы, или переживание боярышника, или переживание пирожного имеет к миру пирожных? То есть когда я ощущаю, что я своим несомненным для меня актом жизни не умещаюсь в мире, для меня нет места в мире, тогда у меня возникает вопрос смысла. В том числе — всех наших избыточных высоких чувств, Смысл моей любви к Альбертине — какой в этом смысл, когда ясно, что Альбертина как человек, то есть как предмет, заменима другими, и только случайность кристаллизовала мой духовный, или душевный, мир на Альбертине. И законы этой случайности таковы, что если я испытал нежность через Альбертину, то, как говорит Пруст, потом я испытываю потребность в нежности только в виде потребности в Альбертине (обратите внимание на этот важный ход; частично я вам пояснял это Аристотелем)