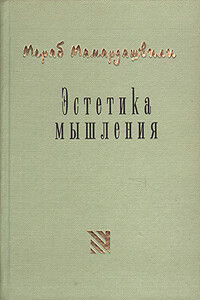Как я понимаю философию | страница 19
Труд жизни происходит без видимого продукта, без разрешающей стадии, без разрешения наших чувств и энергетических запасов. Да и какое разрешение может быть, если ты не можешь вернуть того, кого оплакиваешь, если, терзаясь угрызениями совести, не властен повернуть мир вспять, чтобы не повторить поступок, который тебя мучает?
Но есть ли временные различения в том, что я называю трудом жизни? Есть ли там вообще прошлое? Нет, это актуальное состояние, где не возникает сомнения, что о том, чего не вернуть, думать нельзя; к нему неприложимо различение прошлого как свершившегося в какой-то точке, задающего временные условия причинной связи (которую нельзя отменить), являющегося основанием всех причинных цепей, сковывающих мир. Само различение прошлого, настоящего и будущего здесь не работает. В каком-то смысле мы вынуждены называть прошлое будущим, будущее — прошлым. И Кант это прекрасно понимал: когда он говорил о раскаянии совести, то относил это к состояниям разума и подчеркивал, что у разума нет прошедшего.
Думаю, к такому состоянию все вышеупомянутые различения неприменимы. И, может быть, эти состояния как раз и являются ядрами нашей духовной жизни, если под духовной жизнью понимать жизнь сознания. Сознание есть бытийствующее сознание, свойство, онтологически укорененное. И там действительно происходят события — события жизни сознания. Не сознания о чем-то (т. е. события не в содержании, а в жизни самого сознания), ведь оно дает такие продукты, которые невозможно установить рефлексивно в качестве содержания нашей ментальности. Это знали и древние. И даже Фреге в своей чисто логической работе приходит к тому, что мысль есть что-то, что не может быть предицировано к субъекту в качестве содержания его ментальности. — Да, это действительно особый духовный мир, окружающий человека в его мышлении. Мир, в котором нет стрелы времени, где нельзя выделить какую-то единицу смысла, как мы выделяем букву в слове и слово в предложении, потому что саму мысль нельзя с этим отождествить.
Отчего же из философии — с тех пор, как она начала увлекаться материализмом, — ушли такие категории, как Бог и душа? Очевидно, эти категории, сами по себе зыбкие, все же ухватывают что-то «такое»? — Сами по себе эти категории взяты из обыденного языка. И могут вызывать настороженное отношение философов. Ведь философия в отличие от религии не может останавливаться на состояниях почтения, послушания, уважения. Философия (и мысль вообще) не может и не должна почтительно замирать ни перед чем. Да и человек, попавший в перекрестье тех самых силовых линий мира, на ту «точку актуальности», пребывающий в состоянии «остановки» и вслушивающийся в мир, ему вдруг открывшийся, — такой человек просто не в состоянии замирать в почтении перед чем-либо. Сама ситуация, порождающая потребность в философствовании, — это зона «сверхвысокого напряжения», концентрации всех жизненных сил, опыта, интуиции. И то, что порождается всем этим, — это крик, который нельзя сдержать! Не так важно, будет ли он изложен профессионально грамотно или выродится в нечленораздельный лепет, обретет ли строго логическую структуру и академическую форму или выразится в интуитивно найденных словах, Важно, что этот крик, это прозрение будут касаться всего того, что связывает человека с миром, с другими людьми и будет непременно адресовано не только себе, но и им.