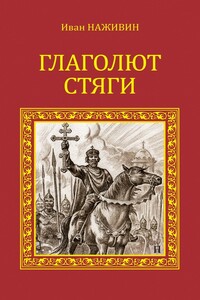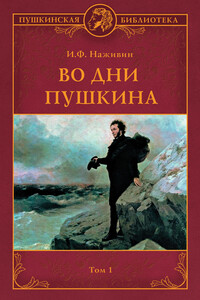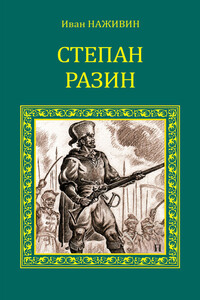— писал совсем не потому, что он это думал, а потому, что от него ждали, чтобы он что-то такое там написал именно в этом духе. И чтобы не обмануть ожиданий близких, чтобы понравиться, чтобы показаться им царем энергичным и деловым, он и писал свои похвалы доблестным гренадерам. И все восхищались его резолюциями и укрепляли его в мысли, что это именно так и надо. Но как только он оставался опять один, в нем рождалось подозрение, что он в сущности ничем не управляет, что его значение в жизни страны так же мало, как мало значение сухого листочка, упавшего с дерева в море, для жизни этого моря. И тогда он охладевал ко всему: и к одобрению окружающих, и к молодцам гренадерам, и к грохоту далеких пушек Кронштадта, бивших по восставшим кораблям. Будет то, что будет, — на все воля Всевышнего… В довершение всего он давно уже, с первых шагов почувствовал себя под властью какого-то рока: ему не было удачи решительно ни в чем. Был предположен веселый народный праздник — кончилось, даже не начинаясь, страшной Ходынкой.
>{54} Захотел он стать твердой ногой на Великом океане, дать России новую силу и новую славу — кончилось ужасающим бесславием японской войны, постыдной контрибуцией, потерей русской территории. Много лет страстно желал он с женой наследника — тем более что качества его брата Миши как возможного правителя были слишком хорошо известны ему, — и наследник родился со страшной болезнью, от которой спасал его только Григорий. Он оробел, он боялся действовать, потому что, претворяясь в жизнь, его добрые намерения превращались в несчастье и для него, и для России…
И теперь он слушал выговоры своего Друга — императрица всегда писала это слово с большой буквы — и вполне с ним соглашался: конечно, чепуха эта Дума — жила же без нее Россия тысячу лет! — и жидов, конечно, надо бы укоротить, и газетишки все изолгались до невозможности, все правда, но… но куда бы лучше было поехать сейчас в шхеры, половить рыбки, разложить на бережку огонь, побродить по лесам…
В дверь осторожно постучали.
— Entrez![11] — отозвалась императрица.
В комнату с милой улыбкой вошел наследник, прелестный мальчуган с чистыми и ясными глазами, в сопровождении своего гувернера, господина Жильяра, крепкого, спокойного швейцарца с бородкой Буланже.
Алексей сердечно обнял мать и отца и с застенчивой улыбкой поцеловал темную бороду Григория.
— Вот! — проговорил тот. — Ишь, какой молодчинище… А вы горевать!.. А каких гостинцев я тебе из Сибири привез!.. — обратился он к мальчику. — Перво-наперво самострел — чуть не на версту пуляет… Потом пимы зырянские, шелками шитые — зимой гоже тебе в них будет, малицу, а потом, друг ты мой ситнай…