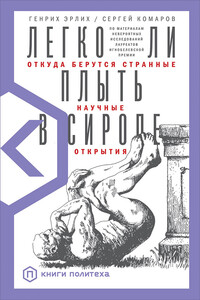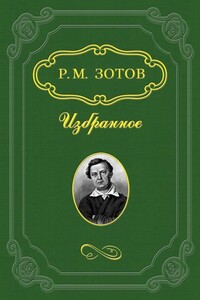Царь Борис, прозваньем Годунов | страница 58
Тяга к простонародному не ограничивалась у царя Симеона только женщинами, она, к сожалению, пронизывала все его жизненные привычки и пристрастия. К сожалению потому, что это немало унижало величие царское, и многие выходки Симеона заставляли меня краснеть от смущения, и перед кем — перед послами иноземными! А Симеону до этого и дела не было! Привык он у себя в глуши чудить, как ему вздумается, никого не стесняясь и ничем себя не ограничивая. Ко всему этому примешивалась еще и его гордость непомерная. Он всегда кичился своим высоким происхождением, а став царем, полагал себя первейшим из царей земных. Что ж, это было справедливо, ведь и брат мой таких же мыслей придерживался, но Симеон еще дальше шел. Он почитал себя не первейшим, а единственным истинным владыкой на земле, ибо только у него власть от Бога, а у остальных правителей, императора германского, султана турецкого, не говоря уже о всяких корольках, — от людей. Да, собственно, и людьми-то он считал только представителей нашего рода, говоря, что лишь мы происходим от Адама, а остальные, прости Господи, от обезьян каких-нибудь. Себя же он видел на вершине главного ствола этого древа и самому Спасителю отводил место лишь на боковой ветви. Конечно, и в этом было много справедливого, но у воспитанных людей не принято о таком вслух говорить.
Так и получалось, что чуть ли не каждый прием послов иноземных заканчивался какой-нибудь Симеоновой выходкой. Скажем, прибывает к нам посол кесаря римского, встречают его с торжественностью необычайной, от границы сопровождают его пятьсот всадников в одеждах роскошных, подают ему карету, запряженную двенадцатью конями белоснежными, от отведенного ему подворья до дворца царского выстраиваются три тысячи стрельцов в кафтанах новых с алебардами посеребренными, а на извечно грязную мостовую московскую укладываются ковры бухарские, все бояре в одинаковых шубах собольих и высоких шапках лисьих по лавкам сидят, а Симеон во всем облачении царском на троне восседает, слушает представление посла, кивает милостиво. Вдруг загораются у него глаза блеском нехорошим, прерывает он дьяка Щелкалова, от его имени речь ответную произносящего, и сам к послу обращается. Слышал я, говорит, что кесарь у первосвятителя римского туфлю при приеме целует. Истинно так, отвечает посол, ибо папа римский — наместник Господа на земле и над всеми королями земными владычествует. Удивительно нам это слышать, говорит Симеон, а ну-ка покажи, как это делается, и — выставляет вперед ногу в сапоге. Это бы еще ладно, но ведь дюжие молодцы из стражи государевой того посла, изо всех сил упирающегося, действительно лицом к сапогу Симеонову прикладывают. Посол, понятно, о происшествии этом государю своему не доносит и никому никогда не рассказывает, чтобы не стать всеобщим посмешищем, но, затаив обиду, после возвращения своего начинает распространять всякие небылицы про державу нашу и про царящие в ней варварские обычаи. Нехорошо!