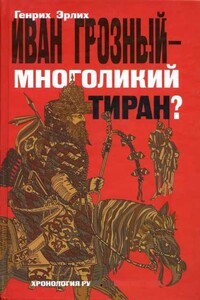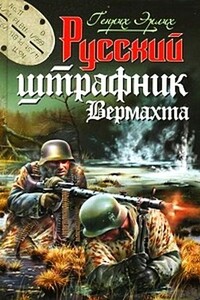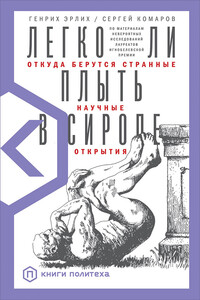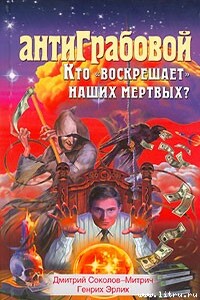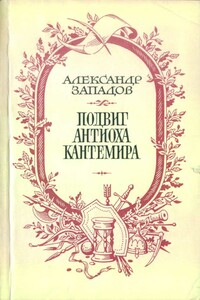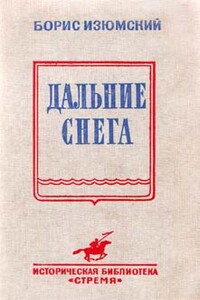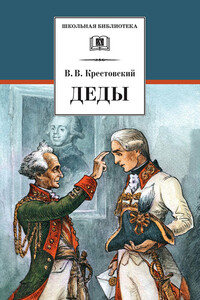Царь Борис, прозваньем Годунов | страница 110
Не оставлял князь Андрей и книжных своих занятий. Озабоченный дальнейшим просвещением народа русского, много переводил с греческого и латинского языков, до меня не все доходило, разве что отрывки из творений Иоанна Златоуста и Евсевия, но они мне весьма понравились. К сожалению, не могу сказать того же об исторических писаниях Курбского. Не избежал он ошибки, распространенной среди писателей и многих ученых историков, — взялся за события настоящие, разворачивающиеся у него на глазах. И по жару сердца своего внес в записки свои много личного и посему необъективного. Оно бы и ничего, если бы сказал он прямо и открыто, что это лишь его собственные воспоминания, исследователь позднейший сложил бы их с воспоминаниями других людей, столь же пристрастных, и, быть может, сумел бы воссоздать истинную картину прошедшего. Но Курбский делал выводы, более того, навязывал их читателям своим как истину, последнюю и нерушимую, забывая о том, что следствия многих поступков и событий проявляются лишь в отдаленном будущем, для нас, свидетелей непосредственных, подчас недостижимом. Историю надлежит писать с некоторого отдаления, когда, с одной стороны, проявятся эти самые следствия, а с другой — почиют все участники событий. Это необходимое условие объективности, ведь личное знакомство с героями неизменно занижает их Оценку. Люди великие зачастую обладают в быту характером мелким, противным и вздорным, я бы даже мог сказать, что чем более велик человек в деяниях своих, тем более мерзкий у него характер, если бы не имел примеры обратного, если честно, один пример — брата моего. В то же время нет людей от природы плохих, по крайней мере, я всегда верил, что люди лучше, чем они кажутся, поэтому историк, следуя золотому правилу говорить об усопших только хорошее, невольно приближается к истине.
Но вернемся к Курбскому Со свидетельством непосредственным у него тоже неладно вышло. Если забыть на время о том, что я недавно говорил, а также об известной нескромности Курбского и его страсти к самовосхвалению, то первая часть его записок, касающаяся правления брата моего, неплохой получилась, почти не уступающей моему «Сказанию о взятии Казани». Исследователь пытливый может найти в ней много сведений о великих деяниях брата моего, кои продолжались и после его ухода в трудах сподвижников его ближайших, именуемых Курбским Избранной радой. Но все, что относится ко времени после отъезда Курбского, никуда не годится. Хоть и недалеко он отъехал, но связь с родиной потерял, чем дальше, тем меньше понимал он, что на самом деле у нас происходит, все реже доходили до него известия разные, но и из них он выбирал только те, которые его собственным мыслям отвечали, нимало не заботясь об их истинности. Перестав делать историю, князь Андрей не удовольствовался почетной, но для него слишком скромной ролью летописца, он не писал историю, он ее придумывал. Писатель взял верх над историком. Я тоже этим грешу в своем рассказе, постоянно сбиваясь с дел государственных на дела личные, но так я и не претендую ни на что. Просто пересказываю жизнь свою, перемежая рассказ мыслями разными, пусть глупыми, но своими, не забочусь о назидательности и, избави Бог, не делаю никаких выводов, далеко идущих. Пророчества не в счет — они от Бога. Если бы я хотел провести какую-нибудь мысль генеральную, если бы хотел предостеречь ныне живущих и потомков наших от ошибок пагубных, если бы, в конце концов, хотел изобразить критически происходящее вокруг меня, разве я бы так писал? Что, я не знаю, как романы такого рода пишутся?! Возьми какое-нибудь время давнее и перенеси туда события действительные, вокруг тебя происходящие, придай персонажам древним черты окружающих, выскажи все, что ты о них думаешь, вывали все сплетни, что о них слышал, чем грязнее и невероятнее, тем лучше для общего успеха, высмей все их деяния, показывая последствия пагубные, и ничего не бойся, даже и ударов палочных, потому что герои твои, единственные из всех, не посмеют узнать себя в карикатурах этих. А под шумок повествования занимательного протащи свои мысли о том, как надобно все устроить, и рассуждай высокоумно о путях истории, в коих ты один и понимаешь. Вот как поступать надлежит! А Курбский все наоборот сделал. Населил наше время образами древнейшими, назидательности ради переместил события давние ближе к нам, свои известные идеи о боярстве и власти самодержавной облек в такую аллегорию, что извечное противоборство своевольства боярского с единовластием великокняжеским предстало столкновением не идей, а людей из плоти и крови, не только легко узнаваемых, но и конкретно по именам названных. Вот и брат мой, так живо изображенный в начале, постепенно утратил черты свои и превратился в символическую фигуру властителя беспредельного, бессмертного и неизбывного, как любой символ. Читатели же, не разобравшись, приняли сию аллегорию за историю истинную. Только один толк и был от писаний Курбского, что люди русские в них на людей похожи, не только о двух ногах, двух руках и одной голове, но и с привычками человеческими, кровь не пьют и младенцами не закусывают. Что для жителей европейских, воспитанных на всяких небылицах о земле Русской и о народах, ее населяющих, было равносильно откровению.