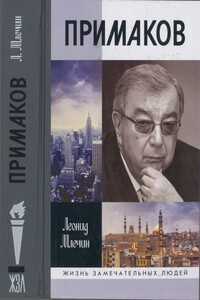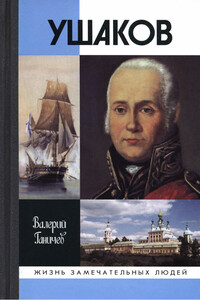Воспоминания | страница 8
В кармане его неизменная «Капитанская дочка» с подстрочником, и когда в разговоре нашем что-то слишком значительное вспыхивает, пугая нас самих, он, улыбнувшись лукаво, примется читать. Старательно произносит, а я, глуша волнение, поправляю ошибки.
Гуляя, мы забрели в Кремль мимо облетавшего Александровского сада, – в Кремль, и мне вдруг ставший заморским, сказочным, из царя Салтана, – которого я вчера только читала ему – и как мы смеялись веселой парности рифм, а я краснела толкуя ему, что значит «царица понесла»… Но полно – близки ли мы внутренне? Мы утверждаем одно и то же, а стрелка указывает разные направления. Его безверие – подвиг и стоило ему разрыва с любимым отцом-католиком. Мне – русской оно далось даром и уж томит, – только вот сейчас, с ним, с Веллеманом, играет последним дерзким весельем. Ницше? Для него – это бунт против затхлости, узости университетских школяров, для меня – первые зарницы нового закона надо мной, беззаконной. Для него… для меня… Но что в том – сегодня мы сливаемся. Рождение любви – у обоих первой.
В день отъезда, зайдя ко мне утром Веллеман в волнении не садится, ходит по моему кабинетику, притрагивается к разбросанным книгам, гравюрам. Начинает говорить, обрывает… Остановился за плечом у меня, сидевшей в низком кресле и – на своем любимом, на языке души, почти без звука: I love you, I love you, и смотрит ждущим, радостно уверенным взглядом. Молча, снизу смотрю на него в нестерпимом блаженстве.
Вечером среди других, под осенним дождем провожала его на Брестском вокзале. Настойчиво вопрошающий взгляд. Сбивчивые слова: «Я напишу…» «Вы напишете…»
Потянувшиеся дни одиночества, жестоко-преждевременного, минуты ужаса перед чем-то, сухие губы, горячечные глаза, – все это, не обманней того мига счастья, говорит мне, что – да, это любовь. Как незрячая брожу по дому, встречаю вернувшуюся семью, хожу на лекции, каждым нервом, каждым толчком пульса жду падения письма в ящик в передней. О, это ожидание, этот звук запомнены извилинами мозга на все будущие тысячелетия! Упало. И сердце тоже… Идешь, замедляя шаги – не то письмо. Всегда не то. Дни, недели, – сколько их? И вот оно через полтора месяца: большой лист, кругом исписанный нетерпеливой его решительной рукой. Рукой, властно повернувшей наш роман по нерусской стезе, по иностранной – с сыновним долгом, с нерушимостью слова. Читаю. ещё по дороге в Вене, его встретила весть о железнодорожной катастрофе, при которой погиб его отец. Все это время он в разъездах. Мать, после похорон опасно заболела. Распутывание семейных дел. «Чтобы вы верно поняли меня, я должен ввести вас в некоторые детали, касающиеся меня и моей семьи. Мне придется теперь спуститься в низменные сферы жизни (into lower spheres) на годы и годы отказаться от творческой научной работы, и я больше не вправе рассчитывать на внимание с вашей стороны. Говорю это не потому, чтобы я считал свои страдания заслуживающими большего сочувствия, чем страдания миллионов вокруг меня, но исключительно для того, чтобы вы сохранили обо мне дружескую память и простили меня, если я обманул ваши ожидания».