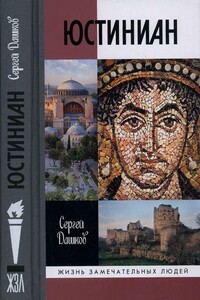Воспоминания | страница 39
Подмечаю, как, рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмоном [9], тонким эссеистом и языковедом, он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его: лицо изъедено волчанкой, обмотано красной «тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг – таким он увидел этого, изысканнейшего эстета. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека – в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил на широкие исторические обобщения. Заговариваем о революции – ведь так недавно ещё 5-й год, так тревожит душу, не сумевшую охватить, понять его…
– Революция? Революция – пароксизм чувства справедливости. Революция – дыхание тела народа… И знаете, – Волошин оживляется, переходя на милую ему почву Франции, – 89-й год, или, вернее, казнь Людовика, – корнями в 14-м веке, когда происками папы и короля сожжен был в Париже великий магистр ордена Тамплиеров Яков Молэ, – этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него и принципы: egalite {Равенство (фр.).} и т. д. И вот во Франции пульсация возмездия, все революционное всегда связано с именем Якова: крестьянские жакерии, якобинцы…
Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка – так всегда строилась мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж, и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична – угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром, что он в то время облекался то в слова Клоделя, то в изречения из Бхагават-Гиты по-французски… [10]
Но Волошин умел и слушать. Вникал в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вчитывался в детские воспоминания её [11], углубляя, обобщая то, что она едва намечала. Между ними возникла дружба или подобие её, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда её наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей легок; с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собой, чуждый капризов настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внутренней немощи, запутанности. «Объясните же мне, – пишет он ей, – в чем моё уродство? Все мои слова и постуцки бестактны, нелепы; всюду, неособенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, -чем-то неуместным… А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей – я не могу её коснуться, это кажется мне кощунством…» Так он говорил и этим мучился. Но поэту все впрок. Из этого мотка внутренних противоречий позднее, через несколько лет, он выпрял торжественный венок сонетов: «В мирах любви неверные кометы»