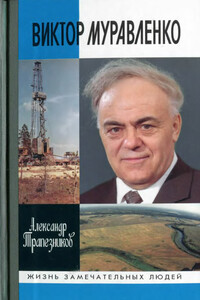Воспоминания | страница 36
По её рассказам, вижу её тоненькой холеной девочкой в длинных натянутых чулочках. Богатая московская семья. Отец – книголюб и издатель [2] – немножко смешной и милый, вместе с дочкой побаивается «мамы», у которой сложная и непреоборимая система запретов. Почему, что нельзя – им обоим никогда не понять. Вот Маргарите так хочется позвать в детскую швейцарова внука, приехавшего из деревни; швейцар принес ей лубяную беседочку – Гришино изделие, – но позвать его, показать, как живут куклы, – нельзя. Она тиха, не бунтует, только взгрустнулось. Вдруг – озаренье: Гриша будет бог кукол – бога ведь не видно, только знаешь, что он есть. Жизнь заиграла. Собираясь на прогулку, Маргарита всякий раз берет с собой другую куклу, наряжая ее» волнуется: может быть, растворится дверь в швейцарскую, мелькнет вихрастый мальчик – кукла увидит бога. И через несколько дней горько упрекала маленькую подругу: зачем, зачем ты выдала! Теперь у кукол больше нет бога.
– Да почему? Мама твоя не бранилась.
– Но она знает, а что она знает, то уж больше не бывает.
И позже, когда Маргарита, уже взрослая, загорится новым поэтом, а мать в своей нарядной гостиной под розовым абажуром перелистает, хотя бы и молча, не осуждая, тощий томик – и вот его уже нет, сник, повял…
– Маргарита уехала в Париж учиться живописи. У неё подлинное дарование, чистота рисунка, вкус. Почему она не стала художником с именем? Портреты её работы, которые я знаю, обещали прекрасного мастера. Правда, почему? Не потому ли, что, как многие из моего поколения, она стремилась сперва решить все томившие вопросы духа, и решала их мыслью, не орудием мастерства своего, не кистью?…
Маргарита уехала в Париж и там встретилась с Волошиным, тогда начинающим поэтом и художником. По галереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман, – не столько роман, как рука об руку вживание в тайну искусства. Волошин пишет:
Для нас Париж был ряд преддверий
В просторы всех веков и стран,
Легенд, историй и поверий.
Как мутно-серый океан,
Париж властительно и строго
Шумел у нашего порога.
Мы отдавались, как во сне,
Его ласкающей волне.
Мгновенья полные, как годы…
Как жезл сухой, расцвел музей… [3]
Но в их восприятии прошлого – какая рознь, он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла. Пышноволосый, задыхающийся в речи от спешки все рассказать, все показать, все воспринять. А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом брезгливо отмечает и одно и другое, сквозь все ищет единого пути и ожидающим, и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил. Но месяцы проходили – и опять; брызжущий радостью, спешил через Европу туда, где она. И они соединились.