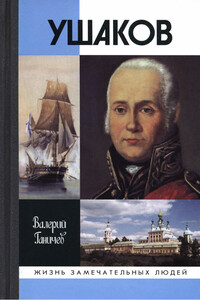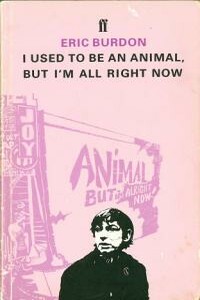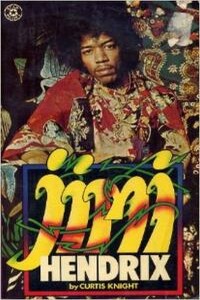Воспоминания | страница 22
Было тогда время увлечения оккультизмом в кругах модернистов. Брюсов с научной методичностью врезается в толщи средневековой магии – памятник, его роман «Огненный ангел». Сколько их ютилось по закоулкам тогдашней жизни – маленьких магов и астрологов! Стихи запестрели заклинательными именами духов и дьяволов. Вячеславу Иванову весь этот астрологический реквизит остался чужд. В руках его я никогда не видела книгу по магии. Строгость ли его филологической эрудиции отвращала его от них или подлинно религиозное отношение к стихии слова противилось в нем словесной мешанине оккультных писаний? И вот все, что он узнал из области тайноведения пришло к нему через Минцлову, живое воплощение тех пьяных богов вакханок, которых изобразил Еврипид; и образ которых влек Вяч. Иванова. Вот она, насмерть испуганная птица бьется у него под рукой… {Дальше зачеркнуто: Не раз говорил он мне, что были минуты, когда всего шаг отделял его от сумасшествия: «надо это помнить т жалеть её. Ведь только так, видя лица вокруг и держась за меня, она на миг живёт как все, а оставшись одна опять вся трепещет и не во власти своей».}
Может быть выдержка из письма Аделаиды тогдашними взволнованными словами лучше передаст, чем дышал тогда Вяч. Ив.
"… А вчера был страшный вечер. Вячеслав увел меня к себе. Душная маленькая комнатка. Каменное, как изваяние лицо Анны Рудольфовны с невидящими глазами. Он хотел, он властно требовал, чтобы она открыла мне о смерти, о жизни. Сначала он сам говорил о расцвете после смерти, о слиянии – единственном настоящем – нетленного с тленным… А дальше я сам только ученик и А. Р. скажет вам то, что надо, чтобы вы знали»…
И он сел у её ног, прижался к ней весь, и она – холодная, огненная, как мрамор белая, острым шепотом стала говорить. Она так дрожала вся, что это передалось мне. Но я ничего не слышала от волнения, а она старалась и не могла повысить голос, – тогда Вячеслав стал записывать под её диктовку отрывочные слова, взглядывая на неё, спрашивая. Я сидела и ждала. Голова как в тумане. Потом он дал мне лист, и я читала. Он принес стихи свои о том же и пояснял их. Потом зоркими вопросами они (больше он) стали узнавать мою душу, сферы открытые ей. Самыми бедными словами, неукрашенными отвечала я, заботясь только, чтобы была одна правда. И как темна и убога казалась я сама себе. Не знаю, поняли ли они… Но Вяч. сказал (говорил он, но все время спрашивая её), что «миссия моя – любовь, чистая, не хотящая для себя». Сказал, что я не должна учить никого, умствовать, – только «благовествовать о любви и смерти и гореть огнем, который зажегся во мне… Наконец, Вяч. ушел, и мы ещё побыли вдвоем, но я ничего уж не воспринимала – слабость была у меня как после обморока».