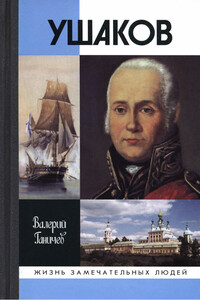Воспоминания | страница 10
Безрадостно, пустынно тянутся зимние месяцы. И вдруг – немецкое, бисерным почерком письмо. Подпись смешная: «Зук» Читаю: сквозь дебри философской превыспренности, под аркадой из имен Канта, Фихте – дверь в рай. После пространных восхвалений друга, вернее учителя своего, мой незнаемый корреспондент говорил:
«Там, где я вижу два равно высоких существа, питаю я для друга моего больше надежд, чем он сам. Поэтому дерзаю сказать: Herr dr. Velleman любит вас в той же мере, в какой он чтит вас. Не встретив ответа с вашей стороны, он со скорбью, но стоически отказался от надежды соединиться с Вами. Он замкнулся, он молчит. Но я твердо знаю, что и сейчас…» и т. д. Зук заверял меня, что Веллеман ничего не знает об этом письме и не узнает, если я соблаговолю ответить ему, Зуку. Он не мог поверить, чтобы женщина отвергла его прекрасного друга, он надеялся, что это недоразумение… Трогательная, геттингенская дружба, во имя которой этот юноша, трепеща, нарушал все правила немецкой благопристойности! Из всего этого я восприняла одно блаженное: он любит. И в благосклонном моем ответе я великодушно разрешила показать моё письмо Веллеману, который и без того не может не знать, как велико моё чувство уважения, симпатии, дружбы… Мне казалось, что мой ответ очень горд и за него, и за меня, и что мы и впрямь два Ubermensch'a, стоящие на разных концах Европы. И, главное, мне хотелось продления сладостного «любит» и не хотелось того да-да, нет-нет, которого требовало нерусское, чуждое психологических ухищрений чувство Веллемана.
С лица моего ещё не успела сойти улыбка счастья, как пришло необычно скоро – взбешенное письмо Веллемана, взбешенное, конечно, на не в меру усердного друга, за которого злыми словами он приносил мне извинения. Но холодным своим гневом оно ушибло меня. Все навсегда кончено…
Есть улицы в Москве, которые до сегодня окрашены для меня мыслью о Веллемане. С курсов, чтобы не идти домой, дольше не видеть своих, сворачивала на Поварскую, малолюдную, засаженную деревьями улицу; туда занесла семя несбывшегося и ходила потом на безрадостные встречи. Впрочем не только безрадостные: молодая боль, что овес, весною посеянный в ящике – чуть не на глазах прорастает, нежно зеленеет.
Лето. Мы с сестрой в Швейцарии. Втихомолку задуманная ею поездка: часами сидела над переводом, копя нам деньги. Встретить нас в Берн приехал Веллеман. Вырвался на несколько часов. Он уже больше не профессорствует – забился в крошечный городок в Locl'e, где в колледже преподает по 12 часов в день, долбит что-то мальчишкам. Ночами подводит финансовые балансы своего кантона. Побыть мы сможем только, если приедем туда, но смеет ли он звать нас в такое неинтересное место? О, конечно, мы приедем. И вот, наспех осмотрев все самое прославленное: зубчатки, ползущие среди елей, гремучие потоки, голубизну глетчеров, через две недели мы в Locl'e. Живут там только часовщики, тикают на каждом доме снаружи часы. Да ещё огромный на всю Швейцарию коммерческий колледж. А он, Веллеман? Прошлогоднего юношеского облика нет. Этих, как ни у кого сверкающих глаз. Весь поблекший. Приветлив, ровен, безличен. Оживляется только, говоря о подготовляемой им лекции самого демократического направления: l'egalite en matiere d'impot последний научный праздник, как он говорит. С материнской нежностью: ах, пусть хотя impot, лишь бы светлел!