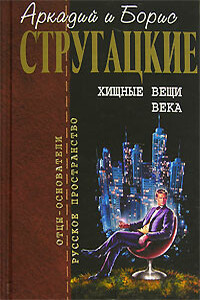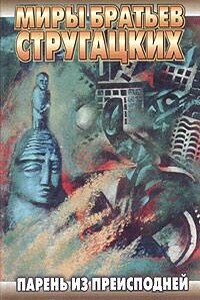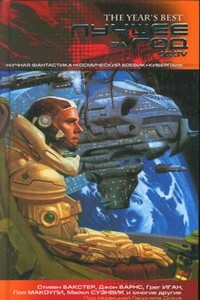Десантники | страница 16
Валькенштейн кивнул. Он не смотрел на Сидорова. Бадер тоже кивнул и посмотрел на Сидорова с какой-то неопределенной жалостью.
— А все-таки? — вызывающе спросил Сидоров.
— Вы слишком любите штурмы, — сказал Горбовский мягко. — Знаете, это — штурм унд дранг, так сказал бы директор Бадер.
— Штурм и натиск, — важно перевел Бадер.
— Вот именно. А это не нужно. Это па-аршивое качество. Это кровь и кости. И вы даже не понимаете этого.
— Моя лаборатория погибла, — пытался оправдаться Сидоров. — Я не мог иначе.
Горбовский вздохнул и посмотрел на Валькенштейна. Валькенштейн бросил брезгливо:
— Пойдемте, Леонид Андреевич.
— Я не мог иначе, — упрямо повторил Сидоров.
— Нужно было совсем иначе, — сказал Горбовский. Он повернулся и пошел по коридору.
Сидоров стоял посреди коридора и смотрел, как они уходят втроем, и Бадер и Валькенштейн поддерживают Горбовского под локти. Потом он посмотрел на свою руку и увидел красные пятна на пальцах. Тогда он пошел в медицинский отсек, придерживаясь за стену, потому что его качало из стороны в сторону. «Я же хотел, как лучше, — думал он. — Это же было самое важное — высадиться. И я привез контейнеры с микрофауной. Я знаю, что это очень ценно. И для Горбовского это тоже очень ценно: ведь Горбовскому рано или поздно самому придется высадиться и провести рейд по Владиславе. И бактерии убьют его, если я не обезврежу их. Я сделал то, что надо. На Владиславе, планете Голубой звезды, есть жизнь. Конечно, я сделал то, что надо». Он несколько раз прошептал: «Я сделал то, что надо». Но он чувствовал, что это не совсем так. Он впервые почувствовал это там, внизу, когда они стояли возле планетолета по пояс в бурлящей нефти, и на горизонте огромными столбами поднимались гейзеры, и Горбовский спросил его: «Что вы намерены предпринять, Михаил Альбертович?», а Валькенштейн что-то сказал на незнакомом языке и полез обратно в планетолет. Затем он почувствовал это, когда «Скиф-Алеф», в третий раз оторвавшись от поверхности страшной планеты, снова плюхнулся в нефтяную грязь, сброшенный ударом бури. И он чувствовал это теперь.
— Я же хотел, как лучше, — невнятно пробормотал он Диксону, помогавшему ему улечься на стол.
— Что? — спросил Диксон.
— Я должен был высадиться…
— Лежите, — проворчал Диксон. — Первобытный энтузиазм…
Сидоров увидел, как с потолка спускается большая белая груша. Груша повисла совсем близко, у самого лица, перед глазами поплыли темные пятна, заложило уши, и вдруг тяжелым басом запел Валькенштейн: