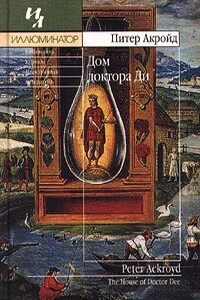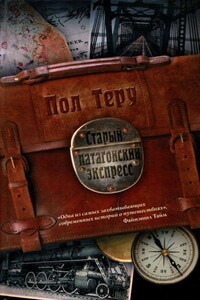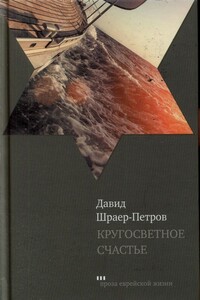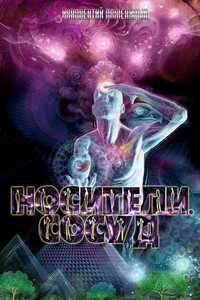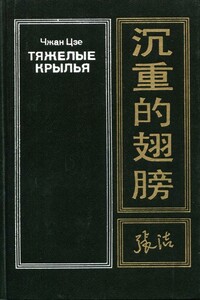Моя другая жизнь | страница 34
Писать домой смысла не было. Я вообще не баловал письмами родных, и получи они внеочередное, чего доброго встревожатся. Наверняка не поймут меня, начнут жалеть. Да и разве опишешь это место? Даже опасно: вдруг получится хуже, чем в реальности? Впрочем, что значит хуже? Ведь проказа здесь — образ жизни, укус змеи — обычное дело, труды ничего не преображают. Все, кроме иностранцев, — прокаженные или родственники прокаженных. Я не знал, как рассказать об этом скупо, без прикрас, поэтому писать не стоило вовсе. Деревня Мойо была бесконечно далека от моих представлений о литературе, дальше некуда. В точности как маниока, неприглядный волосатый корнеплод, который надо долго отряхивать от комьев красноватой земли. Разве его можно есть? И все же мы едим его каждый божий день: чистим, отвариваем и едим. Мякоть несколько волокниста, но через год жизни в Африке маниока уже кажется изысканной пищей.
Мойо — и колония прокаженных, и миссия, и все люди в убогих хижинах — целый мир, небольшой, но мир. Мир болезни. И он был для меня куда реальнее, чем колониальный город, оставшийся где-то на юге, с его главной и единственной улицей и жалкими потугами выглядеть чем-то настоящим. Прежде Блантайр мне таким и представлялся, поэтому писать стихи о нем было несложно. Путешествие в Мойо доказало, что я ошибался.
Настоящее — здесь, и оно не допускает сентиментальности. Сюда приезжают больные, здесь они угасают, здесь умирают. Никаких достижений, никакого процветания. Мирок, где нет иллюзии выбора. И никто против этого не восстает. Не знаю уж почему, но подозреваю, что из-за постоянного присутствия смерти.
Стихи мои были беспредметны и тривиальны. Меня теперь бесило само слово «стихи», в нем чудились нарочитость и самодовольство. Они словно уговаривали: «Взгляните на нас». Привлекали внимание к себе, а не к описываемому предмету. Я решил было их выкинуть, но бумага здесь так ценилась, что кто-нибудь наверняка вытащил бы их из мусорного бака. Стыда потом не оберешься. Поэтому я их спрятал и поклялся уничтожить — позже, тайком.
Потом я снова раскрыл «Дневники» Кафки, прочитал несколько страниц и нашел автора мрачным, мучительно-манерным и преисполненным патологической жалости к себе. Самым ужасным в этом тексте была ипохондрия. Читая такое среди больных проказой, я почти смеялся над навязчивой мнительностью Кафки, над его детальными отчетами о собственных — явно преувеличенных — болезнях.