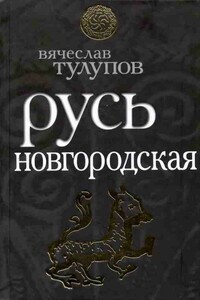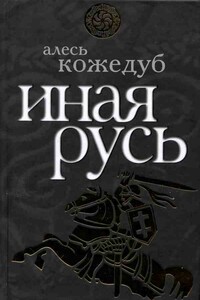Прародина русов | страница 40
Явно выбивается из списка "тутовое дерево". Однако в посвященной ему главке все становится на свое место: «Диалектное распределение форм (греческий, армянский, итало-кельтский) свидетельствует о древности слова в индоевропейском в значении "тутового дерева", "ежевики" и плодов этих растений». Причем «в армянском засвидетельствовано вторичное значение "ежевика" при значении "тутовое дерево", выраженном заимствованным словом fuf, вероятно, из арамейского» [1, с. 645–646]. Аргументацией на тему того, почему именно значение "ежевика" является вторичным, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, как всегда, не озаботились. Причем эти специалисты должны были бы знать, что данное и.-е. слово (*mor-) восходит еще к ностратическому "ягода (вообще)" (алтайск. mür(Λ) "ягода", уральск. marja "ягода", картвельск. mar-cqwa "земляника") [136, с. 9]. Отсюда, вероятно, происходит и наше слово морс для напитка из сока ягод (ср. румынское múrsă «вода с медом, сок, жидкость» [259, с. 658]). В общем, привет ежевике от ёжиков…
Точно так же из списка домашних животных выбивается "осел". Это домашнее животное действительно разводили (и разводят) в основном на Ближнем Востоке. Но, во-первых, на территории Украины в бронзовом веке «показательно наличие в Усатове костей таких степных животных, как сайга и кулан» [18, с. 237]. А кулан — один из видов дикого осла. Во-вторых, цитата из самих Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова: «Ограниченность первичного названия "осла" греческим и латинским не дает возможности считать слово относящимся к периоду общности всех индоевропейских диалектов» [1, с. 562]. Вопрос: зачем же в таком случае Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов вставили его в приведенный выше список («в общеиндоевропейском восстанавливается…» [1, с. 868])? Рассчитывали, что читатели забудут, о чем писалось на триста страниц раньше?
Если с ослом непонятно, зачем его включили, то еще с двумя видами животных непонятно, почему о них забыли. Во-первых, это кошка. Ее индоевропейское название *k>[h]at>[h]-/*k'at'-u- имеет близкие параллели во многих языках Ближнего Востока и даже Африки (в нубийских) [1, с. 600–601]. Очень может быть, что это еще ностратический корень, первоначально обозначавший, естественно, "дикую кошку". «Лесная кошка, иногда называемая европейской или дикой, по внешнему виду, особенно по окраске, похожа на обыкновенную серую домашнюю кошку, так что нередко распознавать их бывает очень трудно, тем более что домашние кошки нередко дичают». В то же время обитающая в Африке и Азии (в т. ч. в Египте и на Ближнем Востоке) степная (нубийская) кошка «несколько крупнее домашней и иной окраски» [42, с. 316]. Вероятно, сто́ит пересмотреть традиционное представление о том, что кошку впервые одомашнили в Древнем Египте. «Любопытно, что это слово, распространившееся практически на всем Ближнем Востоке, отсутствует в египетском, где "кот" обозначается словом