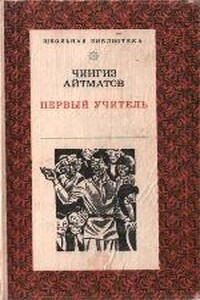Белый пароход | страница 38
Да-а, в город бы… Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пащенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, взыграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать: "Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет?" А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И – в кино. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу заметные – умные. Дома только по-русски говорят – станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: "Папочка, мамочка, хочу то, хочу это…" Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть! А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься, а то и в институт. Поторопился – на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы…
Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется: "Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья…"
Осень настала. Приходилось Орозкулу рассчитываться за почет, за угощения, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: "Тебе что? Два кругляка сосновых на матицы, только-то? О чем тут говорить! Приедешь, увезешь".
Наболтал, подношенья получал, водку пил, – а теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на света, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: "А плюну на все и уйду куда глаза глядят!" Но он тут же понял, что никуда не уйдет, никому нигде не нужен и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет.
Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу-бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко, а ну, попробуй, доберись туда, да спили, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, ну-ка, повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз… Знал бы наперед, что случится, сам бы с Сейдахматом полез за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лесиной. Тот ни в какую: подавай ему настоящее сосновое бревно – и все тут! "Ягненка брать умеешь, а слово сдержать нет?" Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать – убирайся. А тот парень не промах, настрочил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажанова жалобу, и такое там расписал – и правду, и неправду, – что в пору было расстрелять Орозкула, как "вредителя социалистического леса". Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался." Вот тебе и родственник! А еще: "Все мы дети Рогатой матери-оленихи. Один за всех, и все за одного!" Да ерунда все это, какая там, к черту, олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло впиться или в тюрьму засадить! Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные! Кому нужны они, эти сказки для малых детей!