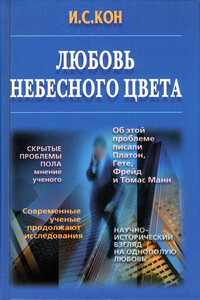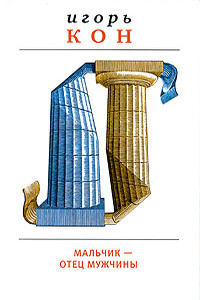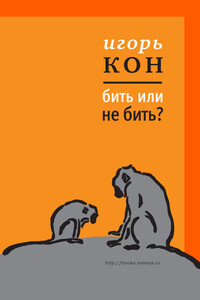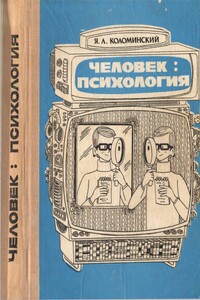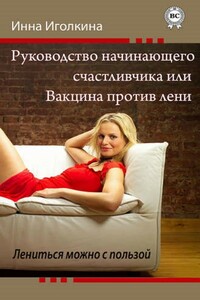Дружба. Этико-психологический очерк | страница 15
Личные связи выступают теперь как нечто принципиально отличное от социальных отношений, поэтому чисто социологические классификации, игнорирующие ценностно-мотивационные аспекты, оказываются применительно к ним малопродуктивными.
В историко-этнографических исследованиях институт дружбы часто рассматривается в контексте эволюции родственных отношений с соответствующей терминологией. Понятие родства не менее многозначно, чем понятие дружбы. Хотя в первобытном обществе отношения «свой — чужой», «близкий дальний» чаще всего символизировались как родственные, люди уже в глубокой древности отличали прирожденное, кровное родство от искусственного, создаваемого посредством особого социального ритуала. Характерна в этом смысле противоречивость понятия свойства. По определению советского этнографа Ю. И. Семенова, «свойство есть отношение, существующее между одним из супругов и родственниками другого, а также между родственниками обоих супругов». С одной стороны, свойство является как бы расширением круга родственных связей. С другой стороны, оно систематически противопоставляется «естественному» родству: свойственники — «чужие» люди, ставшие «своими».
Социальное расстояние «свои — не-свои — чужие — враги» не может быть полностью выражено в терминах родства, предполагающих иную логику дифференциации и социальных отношений: «родство — не-родство — антиродство (категория людей, с которыми никак нельзя породниться, хотя они вовсе не являются врагами)».
Соотношение понятий дружбы и родства у разных народов зависит не столько от уровня их социально-экономического развития, сколько от специфики их культурного символизма. У одних народов дружба считается производной от родства. Например, в традиционной культуре полинезийского народа маори (Новая Зеландия) «друзьями» формально считаются только родственники, хотя в неформальных отношениях признается также партнерство, или дружба, не основанная на родстве (она обозначалась термином «хоа»). А вот папуасы телефолмин (Новая Гвинея) даже свои отношения с кровными родственниками предпочитают описывать в терминах дружбы, различая «друзей», с кем поддерживаются длительные тесные отношения, и «посторонних», с кем таких отношений нет. В третьем случае, скажем, у меланезийцев тангу и орокаива (Новая Гвинея) термины родства и дружбы как бы параллельны, независимы друг от друга.
Этнокультурные и лингвистические различия в области обозначения дружественных отношений очень велики. Так, описанные Б. Малиновским тробрианцы (жители островов Тробриан, в настоящее время часть государства Папуа — Новая Гвинея) имели для обозначения друга-соплеменника и друга-иноплеменника два разных термина, которые никогда не смешивались. В Бирме детская дружба обозначается одним словом, а взрослая — совсем Другим. Множество тонких лингвистических градаций существует в японской и корейской терминологии дружбы.