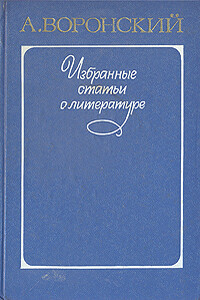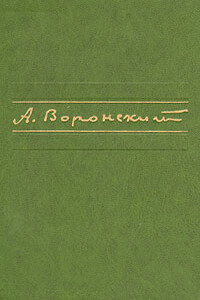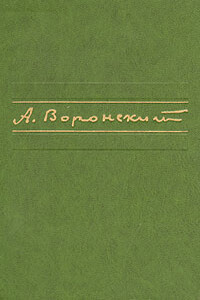Искусство как познание жизни и современность | страница 11
Подчеркивающим объективный, точный, опытный момент в искусстве «по нонешним временам» заранее нужно быть готовыми к упрекам в стародумстве, в буржуазности, в мещанстве, в проповеди чистого искусства и т. п. Упреки в буржуазности и в мещанстве можно без особого ущерба пропустить, но на вопросе о чистом искусстве во избежание возможных недоразумений следует остановиться.
Теория чистого искусства в ее наиболее классическом выражении утверждает, что художник, подобно библейскому Иегове, творит из «ничего»: таинственные недра духа — вот начало и конец художественного творчества: художник не берет объектом пошлую действительность; искусство самоценно, его задачи сводятся к «чарованию красных вымыслов» и т. д. Наши положения противоположны этим и иным подобным утверждениям. В основе подлинного искусства лежит опыт. Художник — экспериментатор и наблюдатель. Его произведение всегда обусловлено духом эпохи, психологией класса, сословия, группы, к которым он принадлежит. Оно служит определенным жизненным интересам, хочет того или нет художник. В равной мере и прекрасное не является самодовлеющею ценностью. Искусство в конечном счете утилитарно. Из этого, однако, не следует делать выводов в том смысле, в каком делает, например, тов. Третьяков, когда пишет: «футуризм должен его (искусство. — А. В.) использовать, противопоставляя на его же арене: бытоотображательству — агитвоздействие; лирике — энергическую словообработку; психологизму беллетристики — авантюрную изобретательную новеллу, чистому искусству — газетный фельетон, агитку» («Леф», № 1). Вполне последовательным отсюда является призыв «бороться внутри искусства его же средствами за гибель его». У коммунизма пока решительно нет никаких оснований ставить своей целью разрушение искусства или подмену художества агиткой. Агитка — вещь полезная и крайне ценная, но это прикладное искусство; удельный вес агитки, фельетона и т. п. в наше время чрезвычайно велик. Следует ли отсюда, что мы должны отказаться от искусства как средства познания жизни? Ниоткуда не следует. Прав был Г. В. Плеханов, когда неоднократно выступал против утилитаризма Писарева. Писарев в своем утилитаризме не заходил так далеко, как пошли тов. Третьяковы. Писарев требовал, чтобы поэт, художник приноси своими произведениями