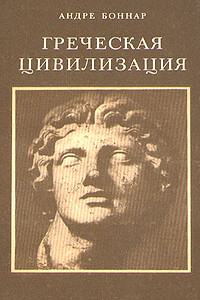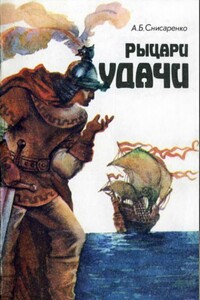Греческая цивилизация. Т. 2: От Антигоны до Сократа | страница 15
Всякое величие ищет исключительного. Фанатизм Антигоны и Креонта раскрывает некоторые неясные области в их психологии. Иные критики задавали вопрос, как могло случиться, что Антигона полностью забывает о Гемоне. Они считают маловероятным, чтобы она могла, соприкасаясь с драмой Гемона, переживая собственную трагедию, не произнести даже имени своего жениха. Это побудило некоторых критиков с чувствительным сердцем приписать Антигоне стих, который тексты Софокла вкладывают в уста Исмены:
О, милый Гемон, как унижен ты отцом!
(ст. 572)
Им кажется, что томно произнесенное «милый Гемон» несколько смягчает нестерпимую непреклонность, в которую замкнулась Антигона, и героиня наконец становится трогательной.
Но нужно ли исправлять текст Софокла, чтобы сделать Антигону приемлемой? Настолько ли непонятно ее умолчание о Гемоне и в конечном счете так ли уж возмутительно? На самом деле это молчание не есть забвение того, кого она любит, и тех радостей, какие сулила ей любовь Гемона. Это достаточно показывает сцена, в которой девушка жалуется на то, что покидает жизнь, не познав супружества и «младенца не вскормив». И не довольно ли нам «трогательных» слов в тех прекрасных строках, где любовь к жизни и к ее усладам выражена с такой полнотой перед приближением смерти? И все же, если даже в эту минуту и тем более во время своего поединка с Креонтом Антигона не призывает Гемона, не объясняется ли это молчание намеренным сосредоточением ее мысли исключительно на несчастье ее брата, призывом всех сил своего чувствующего существа на службу своей преданности брату? Антигона хочет быть исключительно сестрой. Она если не отбрасывает прочь, то хранит глубоко в себе — так, чтобы они уже не могли влиять на ее поступки, — все чувства, способные отвлечь ее от чистой любви к Полинику.
Таким же характерным штрихом освещены все неясности и в Креонте. Это умный человек. Он ясно видит цель, которую себе поставил: в его царстве должен быть порядок. Он любит своего сына, свою жену, свой город. Любовь его, конечно, эгоистична — он их любит ради наслаждения, чести и пользы, которые он извлекает из тех благ, какие ему принадлежат, и все же он их любит, любит в меру своей любви, как добрый правитель своей семьи и государства. Развязка драмы обнаруживает силу привязанности Креонта к существам, которые зависели от него.
А раз это так, как же получилось, что этот осторожный человек, решивший пользоваться благами, которые ему дала жизнь, оказывается настолько ограниченным в устройстве своей жизни и пользовании властью? Как случилось, что он оказался неспособен понять ни один из здравых доводов, приводимых его сыном, и остался глух к этому голосу, который ясно объявляет ему гибель, если он будет править один, наперекор всеобщему мнению? И однако во всех этих неясностях нет ничего, что не было бы совершенно ясным. Креонт по своей природе, как и Антигона, целиком отдается тому делу, которое он предпринял. Решив бороться с мятежом и анархией, он поведет эту борьбу без отступлений, до конца, хотя бы исход ее был смертельным. Ослепление и одержимость навязчивой идеей сказывается в том, что мятеж, который он решил покарать в мертвом Полинике, а затем в Антигоне, он видит и там, где его нет. Мятеж повсюду возникает на его пути, становится призраком его воображения, и он вынужден с ним расправиться. Не только в Антигоне, но, что совершенно нелепо, в воине, который задерживает девушку и предает ее и которого он подозревает в том, что тот подкуплен его врагами. И еще глупее — в Исмене, нежной дочери, из которой он делает мрачную заговорщицу. В его глазах робкие недомолвки хора — тоже мятеж. Мятеж — и мудрые советы сына, направленные на укрепление его власти. Молчание в городе, как и шепот, — мятеж. Мятеж — серьезные предупреждения Тиресия — жадного прорицателя, продавшегося заговорщикам против его семьи и города! Фанатизм характера не только приковал Креонта к принятому решению, но и заключил его в тот вымышленный мир, какой это решение воздвигло вокруг него и над которым он хочет быть хозяином, не допуская, чтобы в него что-нибудь проникло — ни любовь сына, ни здравый смысл, ни жалость, ни даже простой интерес или понимание положения. Кто же рассеет это наваждение, кто снимет эту страшную осаду, ту блокаду, которую Креонт воздвиг против самого себя? Его фанатизм обрек его на одиночество, сделал из него мишень для всех. Даже в тех, кто хочет его спасти, он не может теперь не видеть своих врагов.