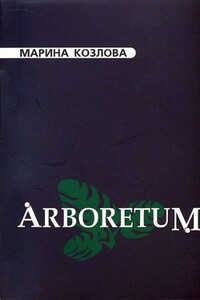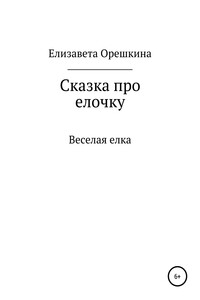Бедный маленький мир | страница 36
По всем правилам папа должен был спиться. Но не спился, даже женился спустя несколько лет. Он преподавал в пединституте историю, а она – методику начальной школы. Лилия Ивановна, бездетная старая дева в толстых очках, коротко стриглась и ходила только в брюках. «Суфражистка», – говорил про нее папа. Детей у них больше не было. Кстати, про детей она, кажется, не понимала ничего, несмотря на свою методику начальной школы. Плохо готовила и не догадывалась об этом – мы с папой ей не говорили. В меню были бесконечные жареные кабачки, синеватая отварная картошка и докторская колбаса, которую папа привозил из Киева, куда ездил иногда в командировки – в институт повышения квалификации или в министерство образования. По-моему, тогда он уже был проректором по учебной работе.
Я был худой, угрюмый, обидчивый. Совершенно без чувства юмора. Мне все время казалось, что на меня нападают, смеются над моими очками, над моими ушами, над моими ластоподобными ботинками – у меня уже в двенадцать лет был тридцать девятый размер. На самом деле никто в общем-то не смеялся, у многих были очки, прыщи, кривые зубы и хронически заложенные носы, но все равно каждое утро, прежде чем отправиться в школу, я как бы надевал доспехи и опускал забрало. И так, скрежеща, лязгая и громыхая, неуклюже брел через Марьину рощу на Вал, мимо Коллегиума и Борисоглебского собора в нелюбимый желтый дом, бывшую женскую гимназию, бывшее реальное училище, с метровой толщины стенами, с арками и с большим подвальным коридором, уходящим куда-то в ретроспективную бесконечность или непосредственно к Антониевым пещерам.
Всем содержанием школьной жизни, начиная класса с четвертого, была пубертатная маета обоих полов, но девочкам непременно нравились старшеклассники. Именно по их поводу они переписывались на уроках, непрерывно шептались и наматывали круги по школе на большой перемене. Я уговаривал себя влюбиться в кого-нибудь, старательно и подробно думая то о Ленке Волковой, то о Наташе Ким, но чувство как-то срывалось, соскальзывало, когда я случайно забывал о том, что надо думать о ней (неважно о ком). То есть все мы как-то приноравливались к жизненным схемам, а учились как бы между прочим. По крайней мере я и по крайней мере до тех пор, пока вместо старенького и невнятного физика Георгия Петровича к нам не пришла Галя. И к тому же она стала нашей классной. Через год, холодным декабрьским утром я провожал ее на киевский автобус, откуда начинался ее путь в Торонто к мужу. Я сжимал синей от холода рукой широкий кожаный ремень ее замечательного рыжего кофра и со всей своей шестнадцатилетней категоричностью думал, что лучше бы мне отрезали руку вместе с этим ремнем и этой невероятно стильной пряжкой, чем разжать пальцы и отпустить сумку, а вместе с ней Галю. Вообще-то ее звали Галина Михайловна. Она была маленькой, носила брюки и разноцветные свитера, большие кожаные сумки и замшевые мокасины, за что на нее косились другие училки. И она была очкариком – как и я. Только очки у нее были какие-то эдакие, в тонкой черной оправе, и очень ей шли. Когда она впервые пришла к нам, мы все рассматривали ее – оранжевый свитер с выводком черных котят на груди, длинную каштановую челку, которая почти закрывала лицо, когда она смотрела в классный журнал. Потом новая учительница оторвалась от журнала и поверх очков посмотрела на наш 9-й «А». Глаза у нее были немного монгольские, растянутые к вискам. Вот этими шаманскими глазами она медленно обвела класс и спросила: