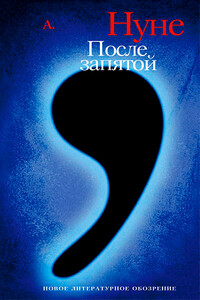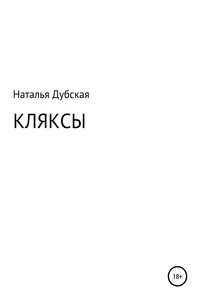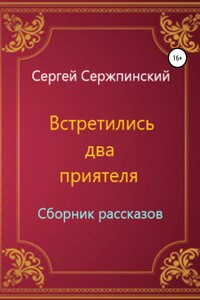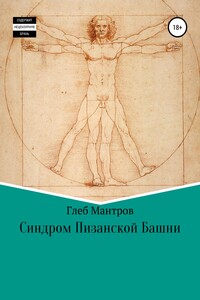Штрихи к портретам и немного личных воспоминаний | страница 80
Последние годы двенадцатилетия, отданного теории относительности, были омрачены совершенно неприемлемыми для Эйнштейна политическими событиями. Дело в том, что в нем изначально была заложена идея единения человечества, и он считал, что понимание этой идеи присуще всем людям и что мир идет по этому единственно верному пути. Явный признак торжества этой идеи он видел в искренних, как ему казалось, взаимоотношениях и сотрудничестве интеллектуалов всех народов, что, как ему казалось, делало совершенно невозможными серьезные столкновения тех стран, которые они представляли. Первая мировая война нанесла жестокий удар по этим представлениям Эйнштейна и отрезвила его, но не лишила надежды, и он начал борьбу за свои политические идеи с той же, а может быть, и с еще большей отвагой, чем та, что была проявлена им в науке.
Глубокий аналитический дар Эйнштейна был универсален, и ему не понадобилось, как полвека спустя Андрею Сахарову, личное общение с каким-нибудь идиотом-генералом с его похабными генеральско-фельдфебельскими анекдотами, чтобы увидеть, в чьи руки попадет созданное интеллектуалами оружие. «Кто есть ху» он увидел сразу. Он увидел, что на пути реализации столь очевидной для него изначальной и естественной идеи создания единого мирового сообщества людей, на этом единственном, как он точно знал, пути выживания человечества стоит огромная злобная и агрессивная «масса» подонков и человеческих отбросов, кормящихся, и неплохо кормящихся, за счет разобщения людей, — это многоликая, но слаженная и хорошо организованная группа «профессиональных политиков», военных, военных промышленников, «отцов наций» и прочих» видных деятелей», прикрывавших свои психические отклонения, комплексы неполноценности и нежелание заниматься полезным трудом лозунгами «заботы о своем народе», о «судьбе нации» и т. п. Сразу же постиг Эйнштейн и сам механизм одурачивания масс, используемый этой шайкой негодяев, живущих человеческой кровью: проповедь превосходства «своей» нации, ее «прав» на управление другими народами, на «духовное» руководство всем прочим человечеством.
В то же время Эйнштейн по натуре был прагматиком, и твердость его личных убеждений не исключала для него возможности общения с «сильными мира сего» и попыток обращения их на путь столь очевидной для него истины. Он мог бы расписаться под словами одного из героев Р. П. Уоррена: «Будем делать Добро из Зла, потому что его больше не из чего делать». И он не только сам, используя свою славу, пытается достучаться до затуманенного сознания масс, но и ищет «лучших из худших» — общается с политиками, поддерживая умеренных, стремящихся к мирному сосуществованию, к единению людей на демократической основе. И ставшие легендой его симпатии к Ленину, Черчиллю, Ф. Рузвельту, В. Ратенау и другим есть лишь выражение надежд на то, что разум может победить безумие.