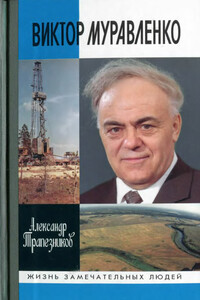Ожидание | страница 47
Незадолго до Мюнхена я познакомился с бывшим эсером — Эммануилом Осиповичем Кладинским. Окруженные угрюмым недоброжелательством большинства эмиграции, остатки демократической интеллигенции жили тогда обособленно, в своих закрытых партийных клубах для пожилых людей. Но Эммануил Осипович или Мануша, как его все называли, пришел к убеждению, что «надо идти в эмигрантский народ». С проповедью этой открывшейся ему идеи он выступал повсюду, где только соглашались его слушать: в кружках студенческого христианского движения, у евразийцев, у младороссов, в Пореволюционном клубе и даже в Союзе русских дворян.
Задумав восстановить в эмиграции «орден русской интеллигенции», он начал устраивать у себя собрания, на которые приглашал эмигрантских сыновей: «пореволюционеров» и таких, как я, монпарнасских завсегдатаев, потерявших от долгого одиночества здравый смысл.
Меня поразил один разговор с Манушей в его кабинете. Желая что-то мне объяснить, он сказал:
— Это было когда умерла моя жена. Я лежал здесь, в этом кабинете на диване и мне стало страшно моего одиночества. Я спрашивал себя: Что же теперь делать? Как дальше жить?
Мне было странно, что он рассказывает мне, постороннему ему человеку, о смерти своей жены. Говорили, он очень ее любил. Смотря на его седую голову и большое грузное тело, я представил себе, как он, словно маленький мальчик, запертый в темной комнате, лежал тут на кожаном диване, напоминавшем мне диван в папином кабинете в нашей квартире в Москве. Мануша между тем продолжал:
— И вдруг мне пришла в голову мысль, от которой у меня закружилась голова. Я встал с дивана и в волнении начал ходить по кабинету. Господи! как же я прежде этого не видел? Ведь у меня…
???
…трел[4]. Глаза у него блестели, точно он сам удивлялся тому, что с ним произошло. — В соседней комнате меня ждали друзья. Они за меня боялись, боялись, что я не перенесу горя. А я, когда я к ним вышел, я улыбался. С тех пор я всегда улыбался.
Что это значит «золотая жила»? Что ему тогда открылось? Может быть, ему потому ничего больше не страшно, что он любил свою жену и людей и верил в Бога и в человеческое дело на земле. Но все-таки, как он мог улыбаться, когда его жена умерла?
Я боялся, что скорее всего Бога нет. Я не мог последовательно об этом думать. Я хотел верить и постоянно говорил о религии и мистическом опыте. Но когда я пытался представить себе, что Бог есть, я сразу чувствовал невероятность этого. Это слишком бы соответствовало человеческому желанию, так не бывает. Все богословские построения казались мне произвольными и до того несоизмеримыми с непосредственным чувством необъяснимости жизни, что я не мог серьезно о них думать. Но когда я спрашивал себя, могу ли я допустить, что мир, жизнь, сознание возникли случайно, мне это казалось таким же невероятным, как существование Бога. Нет, к моему отчаянию, все же не таким невероятным. Потому я так и ненавидел утверждения Бертрана Рассела, что человек, со всеми его надеждами, страхом, любовью и верованиями только порождение случайного сцепления атомов и человечество обречено бесследно исчезнуть в грядущей неизбежной гибели солнечной системы. Ни героизм, ни вдохновение, ни вера, ни любовь не могут победить смерть. Я не находил возражений, мне самому все это приходило в голову с неотразимой убедительностью. Тем мне был отвратительнее самодовольный, бодрый и глумливый тон Рассела.