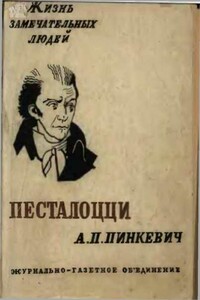Ожидание | страница 34
Меня послали принести воскресную одежду брата. Выходя из лазарета я встретил ученицу старшего класса, в присутствии которой всегда испытывал неясное чувство смущения, влюбленности и желания. С чувством тщеславного удовлетворения я заметил, она взглянула на меня с любопытством, как на участника печального, но важного и торжественного события. Я представился себе чуть ли не героем.
Придя в дортуар, я начал, присев на корточки, вынимать из тумбочки вещи брата. Все были в классе на уроках. Только один ученик, по прозвищу Лорд, почему-то остался. Он подошел ко мне и стал расспрашивать. Подражая тому, как об этом рассказывал папа, я сказал Лорду, что генерал, отец мальчика, не успел приехать на похороны. Лорд с досадой воскликнул, что вот так всегда бывает, генерал опоздал, а мой отец приехал, хотя это не так к спеху было, так как мой брат не так опасно болен.
Тогда я сказал: «нет, он тоже умер», и вдруг слезы хлынули у меня из глаз, и я не мог удержаться и плакал навзрыд. Лорд стоял надо мной с неприятной улыбкой замешательства.
Маленькие пожелтевшие фотографии. Гроб, заваленный венками, на лентах надписи: «Дорогому Юрочке от 8-го класса» и еще каких-то классов, не разобрать. К длинным деревянным пальцам прислонен крест. Брат был не по летам высокий, а за время болезни еще вырос. Говорили, что в городе с трудом нашли достаточно большой гроб. На другой карточке — мертвая голова брата, с восковыми веками и длинными, будто подкрашенными ресницами. Строгое, чужое лицо. Незнакомый, заострившийся, не такой как при жизни нос. Папа тоже это заметил. Он всегда в шутку говорил, что у брата нос «сапожком», а в гробу у него нос был с горбинкой.
Дома мы никогда не говорили о смерти брата. Это было слишком большое горе, чтобы об этом говорить. Когда брат мне вспоминался, я сейчас же заставлял себя думать о другом. Это легко было: действие какого-то механизма самосохранения не давало мне сосредоточиться на мыслях о смерти брата. Да никаких мыслей и не могло быть. Разум останавливался перед противоречием между продолжавшейся жизнью и несоединимым с жизнью ужасом уничтожения брата какой-то бессмысленной, беспощадной силой. Если думать об этом — нельзя жить.
Много лет спустя, когда я прочел у Карлейля, в «Сартор Резартус», что небо и земля казались его герою огромными челюстями какого-то всепожирающего чудовища, я подумал, что это нелепое на первый взгляд сравнение ближе всего передавало мое тогдашнее чувство.