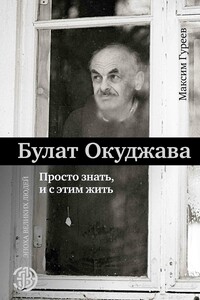Ожидание | страница 3
В моих воспоминаниях много неустановимого, как в воспоминаниях о виденном во сне. Но эти мгновения жизни моего отца, когда он так лежал на диване, чувствуя усталость и недовольство собой, я вижу с такой несомненностью, будто это вчера было. Они освещены ярким неподвижным светом. Я могу их рассматривать, сколько хочу. Они никуда не исчезают. Никакая сила не может их сделать не бывшими. Теперь я даже лучше, чем тогда, понимаю, какую печаль чувствовал в тот день мой отец.
Мама всегда была грустная. Целуя меня и обливая слезами, она говорила, что скоро умрет, так как папа ее не любит. На меня это не производило никакого впечатления. Я уже знал тогда знаменитый силлогизм, но я не мог себе представить смерть мамы, или папы, или брата Юры. Этого так же не могло быть, как не могла вдруг исчезнуть занимавшая все место действительность: небо, дома, земля. И так же я не мог себе представить мою смерть. Сколько раз, когда я чувствовал себя обиженным, я даже хотел умереть. Тогда все поймут, какой я был хороший, умный, замечательный мальчик, и будут плакать и жалеть, что несправедливо меня наказывали. А я откуда-то сверху буду смотреть на них с любовью, упреком и кротким торжеством. Тут я вспоминал, что, если я умру, меня больше не будет на земле и я ничего не буду ни видеть, ни чувствовать. Но я не мог этому поверить.
Однажды, лежа на диване в папином кабинете, я с чувством странной отрешенности старался думать о том, что будет, если я внезапно умру. Папа, и мама, и Юра, и Фани Семеновна будут плакать, но вся знакомая мне жизнь будет продолжаться. По улицам по-прежнему будут ходить мальчики с няньками и гувернантками, будут ездить извозчики и трамваи, а меня — не будет. Я не буду ничего видеть, ничего сознавать. Вместо всех моих чувств и мыслей наступит ничто. Но как я ни зажмуривался, стараясь вообразить это ничто, всегда оставалось чувство движения времени: вдруг зачешется нос; захотелось повернуться; в конце коридора хлопнула дверь, это, верно, Аннушка пошла накрывать в столовую; внизу по мостовой звонко цокают копыта, стучат колеса извозчичьей пролетки; вдали высокий голос татарина протяжно выкрикивает: «старые вещи, купи-продай, старые вещи!» Настоящее неустранимо присутствует, слитое с моими впечатлениями в одно неразделимое существование. Я всегда буду.
Когда папа заболел дифтеритом, меня и брата повели в церковь в Хлыновском переулке. Нам велели стать на колени и молиться Боженьке, чтобы папа выздоровел. Сначала, как всегда в церкви, мне все нравилось. В высоких шандалах зажженные свечи: посередке большие, толстые, а вокруг них тоненькие, частые, как рожь. Когда из-под купола тянул ветер, языки пламени вдруг все сразу трепетали, будто всполохнутые стаи золотых птичек. В красивых лампадках из красного и синего стекла тоже теплятся огоньки. Но особенно мне нравилось, когда кадили: бряцание встряхиваемых серебряных цепей, клубами всходит дым. Этот дым так необыкновенно, так чудно пахнет.