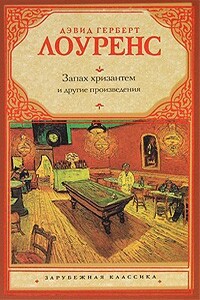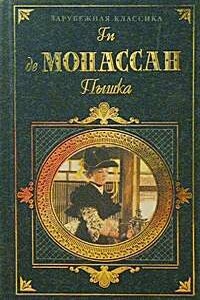Англия, моя Англия | страница 21
И потому, когда грянула война, все существо его безотчетно восстало против нее — восстало против побоища. Он не испытывал ни малейшего желания идти побеждать каких-то иноземцев, нести им смерть. Величие Британской империи не волновало его, и слова «Правь, Британия!» вызывали разве что усмешку. Он был чистокровный англичанин, совершенный представитель своей нации, и не мог, оставаясь верным себе, исполниться воинственности на том лишь основании, что он — англичанин, как не может исполниться воинственности роза на том лишь основании, что она — роза.
Нет, Эгберт положительно не испытывал желания разить немцев во славу англичан. Различие между немецким и английским не было для него различием между добром и злом. Для него это было просто несходство, такое же, как между болотным голубеньким цветком и белым или алым бутоном на кусте. Как между вепрем и медведем, хоть оба — дикие звери. Бывают люди хорошие по природе, бывают — дурные, и национальность тут ни при чем.
Эгберт вырос в семье, где такое усваивают с молоком матери. Ненавидеть нацию en bloc[6] казалось ему противоестественным. Он мог недолюбливать одного, любить кого-то другого; слово «народ» не говорило ему ничего, одни поступки он не одобрял, другие — считал естественными; на каждый случай жизни он не имел определенного мнения.
Но одна благородная особенность была у него в крови. Он не терпел, чтобы ему навязывали мнение в соответствии с мнениями большинства. У него есть собственный взгляд на вещи, свое особое отношение к ним, и никогда он по доброй воле от них не отступится. Неужели человек должен отступиться от своих подлинных представлений, своего подлинного «я» потому лишь, что так угодно толпе?
То же самое, что тонко и безоговорочно понимал Эгберт, понимал и его тесть, на свой грубоватый, строптивый лад. При всем несходстве, эти двое были истые англичане, и побуждения у них почти совпадали.
Только Годфри Маршаллу приходилось считаться еще и с окружающим миром. С одной стороны, была Германия, одержимая духом военной агрессии; с другой стороны — Англия, выдвигающая в противовес войне идею свободы и «мирных завоеваний», иначе говоря — индустриализм. Из двух зол выбирают меньшее; и, поставленный перед выбором: милитаризм или индустриализм, старый Маршалл волей-неволей отдавал предпочтение второму. Старый Маршалл, в душе которого столь живо было врожденное стремление к власти.
Эгберт же попросту отказывался считаться с окружающим миром. Отказывался хотя бы сделать выбор между германским милитаризмом и британским индустриализмом. Не отдавал предпочтения ни тому, ни другому. Что до актов жестокости, он презирал тех, кто их совершает, как выродков с преступными наклонностями. Преступление не связано с национальной принадлежностью.