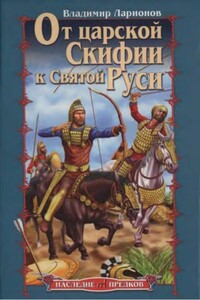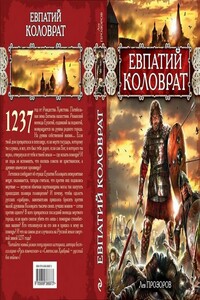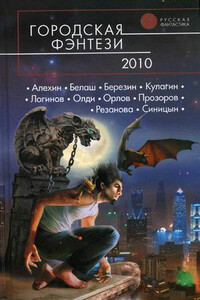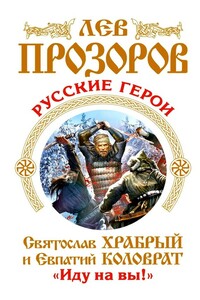Времена русских богатырей. По страницам былин — в глубь времён | страница 30
В случае с волками и вовсе можно ничего не комментировать — натяжка просто режет глаза, однако необходимо отметить, что спутники-волки, вопреки Рыбакову, ЕСТЬ у ещё одного героя былин — у Сокольника.
Не лучше обстоит дело и с «Евпраксией»-Апраксой. Всякое её значение для датировки этой былины устраняется тем, что она — жена (а не сестра!) Владимира в огромном большинстве былин Киевского цикла и ничем особенно не связана с этим конкретным сюжетом. «Королевишна» она потому, что дочь «Ляховецкого» («Политовского», «Поморянского») короля. О её «легкомыслии» поговорим ниже, пока просто заметим, что и здесь ничего общего с «королевской блудницей» западных хроник. В былинах нет «Владимира Мономаха, Тугоркана, Евпраксии Всеволодовны, половецкого хана за княжеским столом».
Рыбаков не отрицал существование у русов докиевского эпоса и даже выявил предположительно его основные темы (войны антов — которых он считал предками русов — с «женоуправляемыми» сарматами, готами, гуннами-«хиновой»), но в былинах «узнавал» его остатки лишь в тех крайне редких случаях, когда даже его, довольно свободным, как вы, читатель, могли убедиться, методом, их не удавалось свести к летописным «прототипам».
Тем же путём, который историк и филолог Вадим Кожинов едко, но точно сравнил с поведением пьяницы, ищущего потерянный кошелёк не там, где потерял, а там, где искать светлее, следовали, к сожалению, и большинство последователей Б. А. Рыбакова.
Однако не все. В статье «К вопросу о времени сложения былин» Р. С. Липец и М. Г. Рабинович вновь, независимо, по-видимому, от В. В. Чердынцева, сформулировали принципы датировки основ былинного эпоса: «Трудно предположить, что в былинах могли быть введены искусственно архаические термины. Поэтому, когда встречаются ранние и поздние термины, преимущество для хронологического приурочения должно быть отдано более раннему термину». Учёные показали, что былины очень точно и даже «любовно» воспроизводят вооружение воина Древней Руси, и не просто воина, а конного латника, дружинника. Причём топор, основное оружие общинника-ополченца едва ли не с антских времён по 1812 год, в былинах как оружие даже не упоминается. Что, кстати, совпадает с выводами учёных, заключающих из упоминаний о применении топора в домонгольской Руси, что знать считала его оружием низким и применяла только против взбунтовавшихся смердов и зверей на охоте. Второе оружие, наиболее естественное для ополченца, охотничье копьё-рогатина, упоминается лишь в руках «сыновьев-зятевьёв» Соловья-разбойника, нападающих на Илью Муромца, а отнюдь не богатырей.