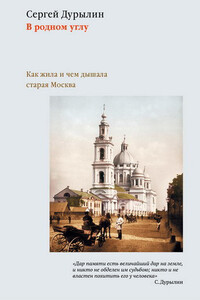Нестеров | страница 15
– Таланта у него не было, но рисовал хорошо: все как надо, все на месте. Помню, была его картина: мальчик-пастух итальянец лежит с дудкой в руках, облокотись на камень. Шляпа на нем высокая. Я хорошо эту картину запомнил. Мне нравилось.
Был тогда в Уфе художник — Тимашевский. Портреты писал. Деревянные. Его в городе уважали. Художник был тогда в Уфе в диковинку. Он идет по улице, а на него пальцами указывают: «Тимашевский идет! Смотрите, вот он!»
Этот уфимский портретист был тоже не без академического достоинства: Матвей Тимашевский был в 1853 году «удостоен Академией художеств звания неклассного художника за написанный с натуры портрет».
Работы этого «неклассного художника» были первыми, по которым будущий автор «Портрета И.П. Павлова» познакомился с искусством портрета.
Но первый шаг к художеству мальчик Нестеров совершил в Уфе с помощью совсем другого человека.
Это был Василий Петрович Травкин — учитель рисования и чистописания в гимназии, куда Нестеров поступил в 1872 году в приготовительный класс.
– Высокий, бритый, с длинными волосами, в вицмундире. Пил сильно. Он в классе один из всех учителей меня приметил. Внимательно поправлял мои рисунки. Любил меня. Зазывал меня к себе. Жил он на окраине. Снимал комнату у какой-то старухи. Нищета полная. Ничего нет. Один вицмундир на гвозде висит. Все остальное пропивал. Был одинокий человек. Неудачник. Но способный, с искрой. Что-то влекло меня к нему, а его ко мне.
Я задумал нарисовать что-нибудь отцу в подарок к именинам. Травкин дал мне оригинал — какой-то замок, написанный акварелью. Я рисовал «Замок» мокрой тушью. Травкин говорит мне: «Я трону», — и рисунок стал совсем другой: все ожило. Он умел рисовать.
Имя этого безвестного учителя рисования, еще в молодых годах погибшего в захолустье от вина, одиночества и тоски, должно навсегда остаться в биографии Нестерова.
Этот нищий учитель чистописания первый почувствовал в озорном мальчике из степенной купеческой семьи будущего художника.
Отдавая себе отчет в истоках своего искусства, Нестеров с особой, ни с чем не сравнимой признательностью называл главной питательницей своего творчества, воспитательницей своего искусства Природу. Он и писал и произносил это слово всегда с большой буквы.
У Нестерова, еще у ребенка, было сильное влечение к природе, были чуткость к ее красоте, восприимчивость к ее великому языку.
«Какие дали оттуда видны! — вспоминал он раннюю-раннюю поездку в подгородный монастырь. — Там начало предгорий Урала, и такая сладкая тоска овладевает, когда глядишь в эти манящие дали».