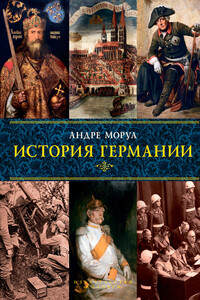Жизнь Александра Флеминга | страница 22
Итак, источники инфекции отчасти были установлены. Теперь надо было найти пути борьбы против них. Некоторые факты, известные еще с древности, могли бы указать ученым дорогу. Когда в Афинах свирепствовала чума, Фукидид заметил, что за больными и умирающими могли ухаживать «только те, кто уже переболел чумой, так как никто не заражался вторично». Было известно также, что натуральная оспа, одно из самых страшных бедствий человечества вплоть до XIX века, болезнь, которая ежегодно убивала или обезображивала миллионы людей, не повторяется. В Китае, Сиаме и Персии в течение более тысячи лет применялись разные способы «вариоляции»: кололи определенные участки кожи зараженными иглами или же вводили в нос оспенные корочки. В Белуджистане заставляли детей, предварительно поцарапав им руки, доить коров, больных оспой (которая считалась тогда легкой формой натуральной оспы), чтобы таким образом предохранить детей от заболевания.
В Европе крестьяне тоже на опыте познакомились с подобными фактами. В конце XVIII века английский врач Дженнер обратил внимание на это явление. Он сказал одной женщине, которая пасла коров, что, судя по некоторым симптомам, она, возможно, заражена оспой, на что та ответила: «У меня не может быть оспы, ведь я переболела коровьей оспой». Тогда Дженнеру пришла в голову замечательная для его времени идея – проверить путем ряда опытов обоснованность этих народных верований. Он решился даже заразить оспой предварительно вакцинированных здоровых людей и установил, что они обладали почти полным иммунитетом.
Это было явление необычайное. В плане практическом оно давало возможность избавиться от страшного бича человечества – оспы, хотя пришлось столкнуться с яростным и нелепым сопротивлением. В плане теоретическом опыты Дженнера доказали, что люди или животные, которым вводили незначительное количество опасного заразного начала, превращались в особые существа, лучше вооруженные против него, подобно тому как народ, который часто подвергается нападениям, в состоянии лучше защищаться, чем другие. «Существует память биохимическая, – утверждает доктор Дюбо14, – она не менее реальна, чем память интеллектуальная и эмоциональная, и, возможно, по существу не очень от них отличается». Как полученная в детстве травма способна искалечить психику и создать стойкие комплексы, так и болезнь, даже в легкой форме, производит в организме глубокие и зачастую благоприятные изменения. Организм, поборовший какое-нибудь заболевание, – это уже не прежний неискушенный организм... «Ты победил меня, ты уже стал другим».