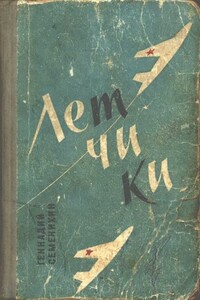Железный театр | страница 27
А время шло. Обреченный на гибель мир день за днем, шаг за шагом приближался к своему последнему часу. И Димитрий тоже был обречен, и уже никак не мог уйти от неотвратимой беды, хотя, когда Гелу арестовали в первый раз, он, несмотря на свои убеждения, уже однажды высказанные им на улице, притом как раз в защиту Гелы, вместе с естественным огорчением и сожалением испытал как бы и некоторое облегчение, которое ему было трудно выразить и трудно оправдать: словно он скинул с ноги тесную обувь и свободно расправил сжатые ею пальцы; а между тем это минутное ощущение облегчения (теперь он уже не будет ходить по собственному дому с задранной к потолку головой) означало именно прощание навеки с легкостью и свободой. Так умирающему в последние его часы внезапно становится заметно лучше, как бы нарочно для того, чтобы его близким, обманутым эфемерной надеждой, неизбежный исход показался еще тяжелей. Впрочем, это еще вопрос, как развернулись бы события, если бы Гела обладал талантом терпения, если бы он добросовестно отбыл наказание и, в соответствии с убеждениями Димитрия, вернулся домой другой, преображенной личностью. Но так не могло случиться, потому что Гела (как это вскоре выяснилось) не был рожден для этого мира; он не подходил для здешней жизни — или здешняя жизнь не подходила ему, как седло корове или корова седлу. Правда, никто не поверил, что Гела совершил воровство (в городе распространился слух, будто полиция при обыске обнаружила у него драгоценности, украденные у начальницы женской гимназии; но эта кража произошла год тому назад, и дело считалось уже закрытым), но все же поведение его было более чем возмутительным: он не желал считаться ни с матерью, ни с законом. Его арестовывали — он убегал; задерживали снова — он убегал опять. То его стаскивали с поезда, то снимали с иностранного парохода. Он не хотел или не мог примириться с несправедливостью или бесчестностью — назовите как угодно; словом, с тем, что миллионы других детей, ни в чем ему, право же, не уступавших, принимали безропотно и безболезненно. Он был чрезмерно горд и столь же преувеличенно недоверчив и поэтому, вольно или невольно, все время поступал не так, как следовало поступать. По крайней мере, так казалось на взгляд любого постороннего наблюдателя, и это, конечно, было на руку полиции, если полиция действительно возводила на него выдуманное обвинение в воровстве или по каким-то неизвестным причинам действительно хотела его погубить. За преступлением, естественно, следовало наказание, а за наказанием — новое преступление, так как именно неприятие наказания заставляло его вызывать своим поведением если не возмущение, то хотя бы изумление сторонних наблюдателей, даже утверждало их в мнении, что гибель его неизбежна и даже как будто оправдана, так как не то что государство, а и родной отец не мог бы простить столько провинностей своему сыну. Между прочим, он был таким же неистовым, как его отец. Подобно своему отцу, он также сразу взбудоражил весь город, и всюду только и говорили, что о нем. Одни смеялись, другие огорчались, третьи жалели его, а иные совершенно серьезно требовали примерного наказания юного преступника на площади Азизея, чтобы другие дети, устрашенные этим примером, уважали старших и считались с ними, а не увеличивали и без того уже тягостную смуту, царившую повсюду. Нельзя же было все взваливать на полицию — полиция защищала порядок, но не могла же она управиться со всем этим множеством сумасбродов и полоумных. «Да что это за напасть, в самом деле!» — восклицали в гневе почтенные горожане, сытно пообедав и придя в настроение порассуждать о государственных делах. Что же касается госпожи Елены (и это, наверно, тоже немало раздражало людей), то она, казалось, была меньше всех обеспокоена всей этой историей. Высокая и прямая, как всегда с гордо поднятой головой, с неприступным и надменным лицом, ходила она по улицам, как бы без слов, одним своим видом утверждая, что сын ее никак не может быть вором; да, да, чем угодно, только не вором: матери воров не ходят спокойные и безмолвные, высоко подняв голову, по улицам. Но город многого не знал и поэтому во многом заблуждался. Не знал город, что душа госпожи Елены горит в лютом огне. В городе шли пересуды, одни защищали, другие обвиняли Гелу, а госпожа Елена уже знала, что сын ее обречен, — знала еще до того, как он в первый раз бежал из тюрьмы, до того, как охота за ним и его аресты стали в Батуми таким же обычным явлением, как морские приливы и отливы. Оскорбленная и негодующая, бросилась госпожа Елена к полицмейстеру, узнав в первый раз об аресте Гелы, но, едва переступив через порог его кабинета, поняла, что напрасно подвергает себя унижению. Будь это возможно, Гелу отпустили бы и без ее вмешательства, а то и вовсе не задержали бы, хотя бы из уважения к его деду: председатель тбилисского губернского суда являлся для местной полиции лицом недосягаемо высокопоставленным и глубоко почитаемым, и она не могла не знать, что задержанный юноша — не просто сын какого-то актера-самоубийцы, а внук главного судьи губернии. И, однако, тяжесть преступления, совершенного Гелой, видимо, давала возможность полиции показать себя неприступной и не поддающейся влиянию вышестоящих и власть имеющих. Конечно, это немалый проступок, и притом весьма неприличный — распевать в церкви величальную царя Абио