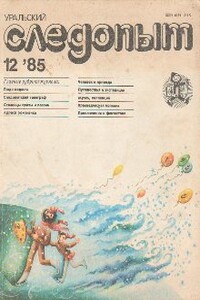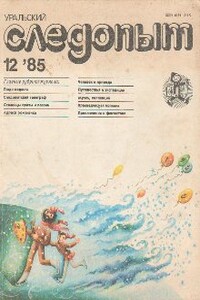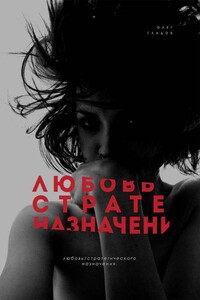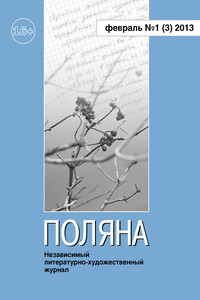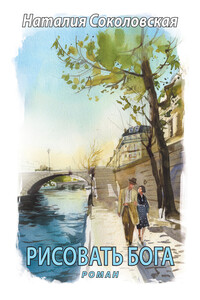Мальчик | страница 38
Семь лет мальчику исполнилось в тысяча девятьсот сорок пятом году, в последнем году войны с немецко-фашистскими захватчиками, а жил он в тыловом городе, и самой войны здесь не было, здесь она не стреляла и не бомбила, хотя на всякий случай с первых ее дней жителям велено было наклеить на оконные стекла бумажные кресты, будто бы спасающие стекла от разрушения при возможной бомбежке. В тыловом городе война выглядела так: неумолчно грохочущие военные заводы, школы, отданные под госпитали для раненых, нашествие эвакуированных, никогда не выключаемые черные тарелки репродукторов по домам, фронтовые сводки Совинформбюро и патриотические песни, продажа хлеба и прочей еды, а также и промтоваров по карточкам, длиннющие очереди в магазинах, всеобщая теснота, бедность, голод.
Взрослые помнили довоенную жизнь, маленькие дети ее не знали. Эта была — данная, единственно возможная. Воспоминания взрослых о прежнем мальчик воспринимал так же, как, пристроившись вместе со старшей сестренкой у горячей печи, слушал сказки, которые мама, вернувшись из госпиталя, читала им хрипловатым от усталости голосом. Нередко отключалось электричество, и чтение шло при керосиновой лампе. Когда мама переворачивала страницу книги, огромная тень взлетала по стенам, застилала потолок и опадала. Страшная сказка от взмахов чудовищной тени казалась еще страшней, волшебная — еще волшебней.
Волшебной казалась и довоенная жизнь. Выходило, что до войны всегда было тепло. Возможно, даже не было зимы. Еду в магазинах покупали просто так, а не по карточкам. Более того, в булочных продавался необычайно вкусный белый хлеб — ситник. Дров для печи можно было разом запасти на всю зиму, до весны, а не как теперь, когда разбирали заборы, спиливали деревья и растаскивали все, что может гореть.
Впрочем, мальчик не так уж мерз и вовсе не голодал. Его кормили пшенной кашей, постными щами из квашеной капусты, винегретом из той же капусты, картошки и свеклы, картофельными оладьями. Поили чаем с сахарином. А бывало, варился компот из жестких сморщенных урючин. Но, разваренные, они превращались в приятную хлюпающую сладость, а из расколотых косточек извлекались вкуснейшие ядрышки. Дети не голодали, за них это делали бабушка с мамой. Им не привыкать: в двадцать первом году пережили голод в Поволжье, бабушка — месяц на чистой волжской водице, а чем кормила своих четверых детей — этого мальчик и, став взрослым, не понял. Но чем-то кормила, раз выжили.