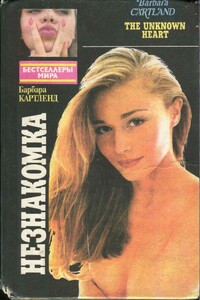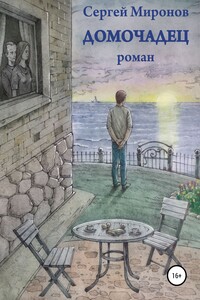Американская пастораль | страница 6
Мне было десять лет. И ничего подобного читать еще не приходилось. Так, значит, жизнь жестока. Несправедлива. Этого быть не может. Ответственным за все зло был член команды «Доджеров» — Раззл Наджент, знатный питчер, но пьяница и задира, тупо и яростно завидующий Парнишке. И все-таки не он, Раззл, становится лежащим на носилках «большим и неподвижным», нет, эта участь постигает лучшего из всех — скромного, честного, серьезного, преданного, открытого, трудолюбивого, смелого гениального спортсмена, красавца сироты с фермы, Парнишки. Само собой разумеется, что в моих мыслях Швед и Парнишка слились воедино, и я гадал, как же Швед вынес чтение этой книги, заставившей меня плакать и долго не позволявшей уснуть. Будь у меня достаточно мужества, я спросил бы, считает ли Швед, что с Парнишкой все кончено, или еще есть надежда, что он вернется. Слова «большое и неподвижное» ужасали меня. Неужели этот последний бросок сезона убил Парнишку? Был ли у Шведа ответ? Волновало ли его это? Думал ли он, что, если несчастье могло обрушиться на Парнишку из Томкинсвилла, оно может обрушиться и на него — великого Шведа? Или книга о жестоко и несправедливо наказанном замечательном игроке — об одаренном и добром Рое Такере, виноватом лишь в том, что он невольно опускал правое плечо и, замахиваясь, посылал мяч чересчур высоко, и все-таки был уничтожен, превращен в пыль грохочущими небесами, — всего лишь одна из стоящих на полке книг, втиснутых между двумя «Мыслителями»?
Кер-авеню была улицей для богатых евреев или, вернее, для тех, кто казался богатым большинству наших семей, снимавших жилье в разделенных на две, три, а то и четыре квартиры домах с крутыми кирпичными лесенками — лучшим местом для игр, которым мы предавались, вернувшись из школы, до бесконечности лупя разными способами по мячу палкой, пока наконец какой-то особо яростный и лихой удар о ступеньку не заставлял его, крякнув, лопнуть по шву. Здесь, на перпендикулярных обсаженных рожковыми деревьями улицах, на земле бывшей фермы семейства Лайонс, разделенной во время бума начала двадцатых на строительные участки, первое постэмигрантское поколение ньюаркских евреев превратилось в сообщество, больше ориентированное на мэйнстрим американской жизни, чем на дух местечка из Старого Света, который их говорившие на идише родители воссоздали в захолустных кварталах вокруг Принц-стрит. Евреи с Кер-авеню, владельцы оборудованных подвалов, застекленных веранд и вымощенных плитками ступенек парадного входа, составляли что-то вроде нашего авангарда и, словно суровые пионеры былых времен, пробивались к нормализующим жизнь американским удобствам. И впереди этого авангарда выступало семейство Лейвоу, одарившее нас своим сыном Шведом, мальчиком, уже ставшим похожим на гоев так, как все мы собирались походить на них в будущем.