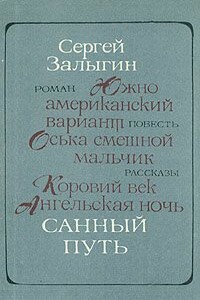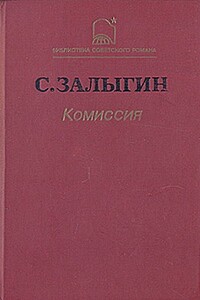Моя демократия | страница 29
Молодые люди устраивали жаркие дискуссии (это не мешало им оставаться надёжным резервом своих учителей), они с увлечением работали в лабораториях, с не меньшим читали «оттепельные» произведения многих тогдашних писателей. Нарасхват был, конечно, солженицынский «Один день…», да и другие его произведения в списках.
Многие писатели из Москвы, Ленинграда приезжали тогда в Академгородок, многие и отказывались — Софронов, например, Грибачев. Тогда на сцене усаживался кто-то из молодых людей и отвечал на вопросы аудитории от имени отсутствующего писателя — это было смешно, остроумно.
Не вполне удачно прошло в Академгородке выступление А. Т. Твардовского: он заявил, что является последовательным сторонником советской власти и коммунистической партии, а публикации в его журнале того же Солженицына продиктованы желанием открыть партии глаза, помочь ей исправить ошибки. Он очень резко отозвался о всеми любимом в Академгородке преподавателе литературы местной физматшколы (результатом было то, что чуть ли не на другой день этот преподаватель был снят с работы).
Встреча продолжалась больше четырех часов в переполненном и душном зале кинотеатра, кое-кто уже падал в обморок.
И ведь вот ещё что любопытно: всё это происходило в бытность местного первого секретаря райкома, а потом и секретаря по идеологии Новосибирского обкома КПСС Егора Кузьмича Лигачева.
Я вот к чему: «оттепель» многим представлялась шансом обновить и власть, и образ жизни, но тут был снят Хрущёв, и это было воспринято как отказ от нового, или хотя бы обновленного, курса.
Наступала пора разочарований. Сникли молодёжные тусовки, академики замкнулись в своих коттеджах.
У меня же произошло серьёзное столкновение с Лаврентьевым: он громогласно объявил, что в последующие пятнадцать лет в Кулундинской степи будет орошено 1,5 млн. гектаров. Это была невероятная фантазия: в Кулунде нет столько земель, пригодных для орошения, земли там пёстрые, разбросанные островками среди малоплодородной степи, и тянуть к ним каналы — безумие. Население малочисленное, оно не справлялось и с обычными работами сельскохозяйственного цикла, а ведь орошаемые земли требуют в три-четыре раза больше рабочей силы, чем неполивные. (В результате было орошено 500 гектаров.)
Я с глубоким уважением относился к Лаврентьеву, но он уже не был тем Лаврентьевым, который на месте будущего Академгородка в глухом лесу построил избушку и поселился в ней с женой. Теперь некоторые учёные искали знакомства с его домработницей. Лаврентьев был выдающимся исследователем прежде всего в области направленных взрывов и очень помог стране во время войны, он и в Кулунде намеревался не копать, а «взрывать» каналы. Он основал Академгородок, и ему стало казаться, что он может всё. Вот так же и советская власть: понастроив великие (но не всегда необходимые) сооружения, победив Германию, она вообразила, что может всё… Это и есть коммунистическое воспитание… Утопия!