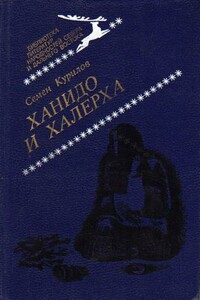Комиссия | страница 44
Гришка же Сухих повесил на свои новые ворота замок, и с тех пор никто чужой в его доме не бывал, никто даже в точности и не знал, как и что там сделано и построено.
Конечно, с этим хозяйством о десяти рабочих лошадях одному управиться было не под силу даже Гришке, и у него жили работники, тоже нездешние, мрачного вида. Говорили, будто Гришка берет их из беглых каторжников и арестантов.
В революцию Гришку в первую голову назвали кулаком, буржуем, капиталистом, эксплуататором, мироедом — еще многими именами, а он вот что сделал: объявил, будто выделил батракам земельные наделы, инвентарь и рабочих лошадей, и на заимке теперь три хозяйства — одно среднее, два бедных. Теперь этим бедным лебяжинское общество во всем обязано помогать не одному же ему, Григорию Сухих, о бедняках заботиться?!
Общество тот раз поручило Дерябину встретиться с Гришкиными батраками, узнать, что это за помощь вышла им от хозяина, но батраки упрямо твердили свое: «Обчество нам обязано дать хлеба и прочего, как беднейшим…» Сам же Гришка Сухих похлопывал Дерябина по плечу и говорил: «Узнавай, узнавай у их всё, оне всё как есть тебе обскажут!»
И нынче, когда Комиссия неожиданно выехала на поляну, где Гришка с двумя этими работниками уже разделали от сучьев три сосны и пилили четвертую, Гришкино внимание в первую очередь привлек Дерябин — он выпрямился над пилой, потрепал на себе широкую рубаху, охлаждая волосатую грудь, и спросил у него:
— Ты не ко мне ли обратно будешь, гражданин?
А других граждан будто бы здесь и не появлялось, никого из них Гришка не заметил.
Дерябин ответил, что он как раз к нему и прибыл — к гражданину Сухих Григорию Дормидонтовичу. Тогда Сухих перестал замечать его, а подошел к Устинову и спросил:
— Закурить нет ли, Никола Левонтьевич? У меня хотя и есть свой табачок, но ты, помню, завсегда турецкий водишь. Угости турецким!
Устинов стал вынимать кисет, а Гришка, придерживаясь за его стремя, кивнул работникам, чтобы продолжали пилить.
Те рванули, пила тонко запела, и минута прошла — Гришка еще не до конца свернул цигарку, как что-то надорвалось в высоченной, прямой, словно стрела, корабельной сосне, она дрогнула, потом будто даже приподнялась над пеньком и негромко, аккуратно, упала. Бухнула раз о землю, и всё. Как будто так и надо было, так вот она и хотела упасть — не в силах дальше стоять веки вечные прямой и высокой.
Гришка, затянувшись турецким, обернулся, поглядел на сосну и спросил Устинова: