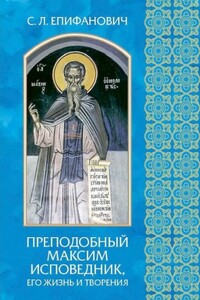Лекции по истории древней церкви | страница 52
Каковы бы ни были догматические воззрения Лукиана в действительности, они, прежде всего, едва ли были точным воспроизведением Павла Самосатского, даже в то время, когда Лукиан находился вне общения с Церковью. По мнению Гарнака, отделение его, вероятно совпавшее по времени с низложением Павла (268 г.), могло иметь отношение к политическому, антиримскому положению Павла, а не к догматическим его убеждениям. И если Лукиан имел нечто общее в своих воззрениях с Павлом, то на этой общей почве он, нужно думать, развивал собственно известные данные пользовавшегося тогда широким влиянием богословия Оригена. С результатами этого богословия должен был считаться уже и сам Павел Самосатский. Прецедентами арианства, соединенными более или менее уже в воззрениях Лукиана, и были, таким образом, с одной стороны — оригенизм, с другой — учение Павла.
Учение последнего было завершением динамического монархианства. Павел хотел строжайшим образом выдержать единство Божества и во Христе видел простого человека. Единому Лицу Бога Отца он противопоставляет человеческую личность Христа. Ό Πατήρ γαρ άμα τω Υίώ (= Λόγω) εις Θεός, ό δέ άνθρωπος κάτωθεν τό ϊδιον πρόσωπον ύποφαίνει, και οΰτως τά δύο πρόσωπα πληρούνται (Epiph. Panar. 65, 7). В Боге существует Слово или Премудрость, которую можно назвать и Сыном, но существует как безличная сила или неипостасное знание (επιστήμη ανυπόστατος). Для Павла не имели значения метафизические рассуждения александрийцев о необходимости признавать существование ипостасной Премудрости или Логоса как отражения свойств непостижимого Отца. Но особенность его учения в том, что он, имея за собой оригеновскую систему и оригеновскую терминологию, находил возможным применять наименования не только Логоса, но и Сына, к безличному свойству или силе Божией, даже употребляя по отношению к нему выражение «υπέστη» (Λόγος προφορικός, ό πριν αιώνων Υιός, τον Λόγον έγέννησεν ό Θεός… και ούτως υπέστη ό Λόγος). Непостижимое Слово или Премудрость (Λόγος άνωθεν) обитало в земном человеке Иисусе Христе, родившемся от Девы (άνθρωπος κάτωθεν, εντεύθεν), как обитало и в других ветхозаветных праведниках, различие между тем и другим обитанием не качественное, а количественное. Между различными природами и различными лицами единение вообще может быть только по согласию воль (ή κατά θέλησιν σύμβασις). И связь, соединяющая человека Христа с Богом, не какая — либо особая, физическая, а исключительно нравственная, заключающаяся в любви к Богу (σχέσις αγάπης, φιλίας), за которую дается Богом человеку Христу познание и участие в божественных совершенствах (συνάφεια [Λόγου και άνθρωπου] κατά μάθησιν και μετουσίαν). Любовь может возрастать, и фактически она достигает во Христе высшей возможной степени (ή κατ' έπαύξην ουδέποτε παυομένη κίνησις της φιλίας). В награду за нее и дается Ему свыше имя паче всякого имени — имя Бога (στοργής επαθλον, Θεός έκ τής Παρθένου Θεός έκ Ναζαρέτ όφθείς). Говоря в этом смысле о человеке Христе как о Боге, Павел говорит и о предсуществовании Христа, но только в Божественном предведении и предопределении (προορισμώ, προγνώσει, προκαταγγελτικώς). Такое умение пользоваться обычно употребляемыми терминами, лишь влагая в них совсем другой смысл, по — видимому, весьма затрудняло борьбу с Павлом для его православных противников на научной почве, хотя практические выводы, какие делал из своего учения сам же Павел, устранив из богослужения песнопения, в которых Христос исповедовался Богом, не оставляли сомнений в истинной сущности его воззрений. Лишь на третьем Антиохийском соборе в 268–269 гг. (первый был в 264 г.), после нескольких неудачных попыток, когда диалектическому искусству Павла противопоставлено было такое же искусство пресвитера Малхиона, стоявшего раньше во главе риторической школы, и когда слова Павла записываемы были тахиграфами (скорописцами, т. е. стенографами), удалось заставить его высказаться прямо, и он был низложен (Μαλχίων […] μόνος ϊσχυσεν τών άλλων κρυψίνουν όντα και άπατηλόν φωράσαι τον άνθρωπον)