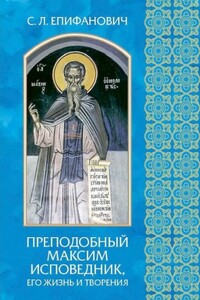Лекции по истории древней церкви | страница 37
Объективная сторона христианства, истина божественного достоинства Сына Божия как единого из трех Лиц Св. Троицы и факты Его вочеловечения, конечно, не могли быть совершенно игнорируемы и на Западе. Но в данном случае, в отношении к триадологии и христологии, Запад довольствовался унаследованными от прежнего времени и воспринятыми с Востока формулами. Выражаемая ими истина в западном сознании должна была получить, естественно, особый оттенок, но обстоятельно — научное раскрытие их вообще для западных не представляло интереса. Лишь блаж. Августин сделал известную попытку, в согласии с общей точкой зрения Запада, приблизить к пониманию истину троичности Лиц Божества, приступив к делу не столько в качестве богослова, сколько в качестве философа; и эта попытка имела решающее, окончательное значение для всего последующего западного богословия: и католического, и протестантского. Но не принимая прямого и деятельного участия в усиленной работе богословской мысли на Востоке, Запад должен был, однако, в силу ненарушимого еще единства древней кафолической Церкви отзываться и на поставленные на Востоке вопросы, и он выступил со своими формулами, которые вели начало по своей основе с Востока же. Это имело место, до известной степени, вероятно, уже в самом начале арианских споров (на Первом Вселенском соборе) и затем во время споров христологических (на Шестом Вселенском соборе). Фактически такого рода участие Запада в восточных делах имело весьма немаловажное значение в решении восточных вопросов. И если западные формулы не были результатом в собственном смысле научной деятельности богословской мысли, то во всяком случае они были выражением религиозного сознания западного христианства, и за ними было поэтому непререкаемое право на предъявление их и на внимание к ним Вселенских соборов. Первоначальный источник их при этом же был на Востоке; Запад предъявлял лишь их теперь опять Востоку в своеобразной модификации.
Хронологический порядок отдельных моментов в раскрытии догмы о Богочеловеке в эпоху Вселенских соборов представляет, как замечено, своего рода логическую последовательность. Но чисто логическим мышление не бывает и в действительности, и в отдельном индивидууме, но всегда осложняется более или менее резкими ингредиентами психологического характера. Тем более нужно сказать это о процессе, так сказать, коллективного мышления. Известная последовательность, в смысле главнейших моментов развития, обычно имеет под собой чрезвычайно сложную фактическую почву разнообразнейших событий и отношений. История христианской догмы, при высокой важности ее предмета, есть, может быть, как замечает авторитетнейший — хотя и с резко отрицательным направлением — представитель этой дисциплины на Западе А. Гарнак, одна из самых сложных историй по количеству и свойству определяющих ее факторов.